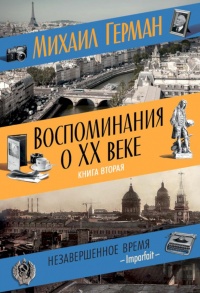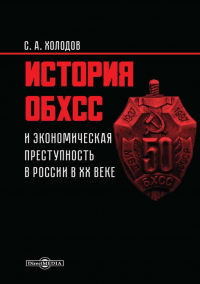Эта запись, сделанная 11 декабря 1942 года (часть первоначальной записи была зачернена или вырезана из дневника), – последняя из того, что напечатано дочерью Чуковской (Еленой Чуковской) после смерти автора. Тогда в Ташкенте, NN, выздоровев от тифа, откровенно избегала Чуковскую, которая еще недавно была ее ближайшим другом и помощником. Они расстались, «не выясняя отношений, не узнавая причин» (2: 21).
Обратим внимание на парадокс. Не сплетни, которых так опасалась Чуковская, а именно ее дневник, «Ташкентские тетради», открыл взорам исполненную противоречий интимную жизнь Ахматовой в военные годы, и не только необузданное веселье и вольность сексуальных нравов (вопреки «естеству»), напоминавшие ее богемную юность, но и трусость перед лицом смерти, капитуляцию перед привилегией (то есть властью) и нелояльность к старым друзьям, включая и погибшего Мандельштама (как это виделось Чуковской).
В конце концов, чувство освобождения, которое овладело ими в начале войны, когда, в отличие от страшных лет террора, страх, лишения и опасность для жизни разделялись со всем народом, не было продолжительным. Судя по дневнику Чуковской, для Ахматовой чувство опасности и ощущение, что она постоянно находится под наблюдением (если не органов госбезопасности, то соседей по общежитию), были неотступны. Во время войны, в эвакуации, Сталин и Гитлер сообща создали ситуацию, не только угрожавшую жизни, но и разъедавшую и сложный баланс амбивалентности, которого требовало социальное положение Ахматовой и Чуковской, и тонкую ткань интимности, которая связывала членов этого сообщества между собой. Присутствие помощника и свидетеля, и притом своего рода «Эккермана», записывавшего ее разговоры (и многое другое), оказалось невыносимым. Записки Чуковской об Ахматовой прервались в декабре 1942 года.
«Началась новая эпоха»: после 1953 годаЧуковская и Ахматова возобновили дружбу в июне 1952 года. Теперь они встречались в основном в Москве. Чуковская, потеряв ленинградскую прописку, вынуждена была уехать из Ленинграда. Ахматова, которая в Ленинграде опять жила с семьей Пунина, часто наезжала в Москву и подолгу жила у друзей. После знаменитого Постановления оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» в августе 1946 года (где Ахматова была названа «типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии») она опять оказалась в немилости. Ее положение стало улучшаться после смерти Сталина, включая и жилищные условия. Так, осенью 1953 года Союз писателей обещал ей комнату в Москве (обсуждался вариант, при котором она бы поселилась в одной, то есть коммунальной, квартире с Надеждой Мандельштам). Но Ахматова колебалась. Она привела старый аргумент: «если она переедет – в ее комнату в ленинградской квартире кого-нибудь непременно поселят и, таким образом, Ирина окажется в коммунальной квартире» (2: 75). Но Чуковская думала, что дело не только в этом: «Анна Андреевна жить одна не в состоянии» (2: 75). У Ахматовой было другое объяснение: «Я потеряла оседлость. Я в Питере не дома и здесь не дома» (2: 362). Бездомность стала и привычным для нее состоянием, и сознательной позицией.
Главная тема нового дневника – исторический слом и память пережитого прошлого. Со смертью Сталина наступили перемены, которые Чуковская и Ахматова остро переживали. Одна из первых записей, от 19 апреля 1953 года, цитирует слова Ахматовой: «Ночью я несколько раз просыпалась от счастья» (2: 58). Чуковская напоминает читателю, что со времени ее последней записи, в январе, случилось многое: 5 марта умер Сталин; 4 апреля газеты объявили об освобождении жертв последней крупной кампании, «еврейских врачей». Именно это имела в виду Ахматова, говоря о счастье, которое прерывало ее сон.
Через несколько месяцев в дневнике возникла новая тема: память. Общими усилиями Чуковская и Ахматова приступили к реконструкции неопубликованных, опасных стихов Ахматовой, которые Чуковская когда-то выучила наизусть, включая «Реквием», посвященный жертвам террора. Как хорошо понимала Чуковская, это было важной частью их близости: « связал „Реквием“ и другие непечатаемые стихи, доверенные ею моей памяти» (2: 21).
Однажды забытые самой Ахматовой стихи, некогда доверенные ею другу и конфиденту Чуковской, всплыли в ее памяти неожиданно, за чаем:
Жара, в горле пересохло. Когда Анна Андреевна предложила мне чаю, я обрадовалась. Ответила строкой:
– «И я прошу как милости…»
– О чем же тут уж так просить? – сказала Анна Андреевна недовольно.
Только в этот миг меня осенило, что она принимает собственные стихи за мою просьбу (2: 67).
Чуковская прочла еще одну строчку, и все лицо Ахматовой осветилось: она узнала свое забытое стихотворение и страшно обрадовалась «вернувшемуся из небытия». Поразительным образом, это было стихотворение на тему о вспоминании, написанное в январе 1940 года: «Подвал памяти». В центре стихотворения – опасный спуск по лестнице, с фонарем в руке, в подвал – хранилище памяти прошлого:
Когда спускаюсь с фонарем в подвал,
Мне кажется – опять глухой обвал
За мной по узкой лестнице грохочет.
Чадит фонарь, вернуться не могу,
А знаю, что иду туда – к врагу.
И я прошу как милости… Но там
Темно и тихо. Мой окончен праздник!
Уж тридцать лет, как проводили дам.
От старости скончался тот проказник…
Я опоздала. Экая беда!
Нельзя мне показаться никуда.
Но я касаюсь живописи стен
И у камина греюсь. Что за чудо!
Сквозь эту плесень, этот чад и тлен
Сверкнули два зеленых изумруда.
И кот мяукнул. Ну, идем домой!
Но где мой дом и где рассудок мой?
Метафора подвала памяти относится и к реальному месту – кабаре «Бродячая собака» в подвале на Михайловской площади в Петербурге, где Ахматова бывала в годы своей богемной юности, незадолго до Первой мировой войны. В 1941 году, как она рассказала Чуковской, во время бомбежки она в поисках убежища случайно оказалась в этом подвале (2: 298, 704). Ахматовский «Подвал памяти» дошел до читателя только в 1966 году, когда это стихотворение, полностью восстановленное в 1955‐м, было наконец напечатано. Но в тот день ни Чуковская, ни Ахматова не могли припомнить ничего, кроме нескольких фрагментов: «…ни начала, ни конца. Анна Андреевна уверяла меня, что я должна вспомнить все, а я надеялась на нее» (2: 67).
Этот парадоксальный опыт – внезапно всплывший в памяти текст, посвященный теме памяти (и теме бездомности), – привел их к разговору о прошлом и к страшным годам террора, которые они пережили вместе:
Быть может, именно по случаю воскрешения «Подвала памяти» мы многое вспомнили в этот вечер из ленинградских вместе пережитых времен (2: 68).