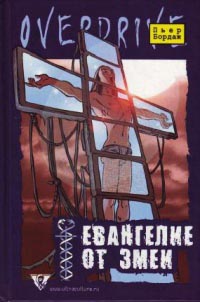голос.
Кто-то темный и большой склонился над ним, и сразу он почувствовал в губах шершавый край глиняной коновки.
— Глотни шалянца, мужик, — сурово обратилась женщина, — это тебе на пользу... А слабый же ты какой...
Яснело в глазах. Да, это был мшаник для пчелиных колод, теперь пустой, и в нем горел каганец, хоть за стеной был день, и плескалась где-то вода, так размеренно, как на мельнице.
Вот уж руки и ноги стали не далекими, а почти совсем близкими. И появилась способность даже повернуть голову.
Приоткрытая дверь. Дневной луч косо падает из нее, и в луче сизо и радужно клубится дым, переливается, наплывает одним завитком на другой. И так все выше, выше. Поп Василь однажды говорил, как кто-то из праотцев во сне увидел лестницу на небо и по ней ходили те дивные ангелы. Они плескали крыльями и ликовали, как куры, когда на двор упадет после непогоды теплый луч. А вокруг них курился ладан, как в церкви.
Дым тянется от кучки смолья, на котором стоит горшок, да еще от трубки мужчины, сидящего возле двери. Что за мужчина? Весь в белом — значит, мужик. Лицо сухое и почти безбородое, усы редкие. А глаза пронзительные, желто-янтарные, будто у коршуна, пойманного в силок. Когда подойдут люди, он смотрит на них непримиримо, затравленно, с той высшей покорностью судьбе, какая бывает у зверей и хищных птиц, понимающих, что уже ничего не поделаешь.
Возле горшка сидит на колоде женщина, та, которая давала пить. Удивительная женщина. Вся в черном, как монашка. На голове длинная черная шаль, открывающая лишь треугольник лица. Лицо мужицкое и не мужицкое, темно-бронзовое и сухое, закостеневшее в какой-то властности. Встретив такую, испугаешься, но тот, коршун, держит себя свободно: видимо, одного поля ягоды.
— Пей, мужик, — говорит женщина.
Склоняется над ним лицо. Глаза страшенные, глубокие и, чудо, совсем не старые.
На кого же она похожа? Ага, на пленную гречанку, жившую у Ходанских. Тусклая, как из-под руки богомаза. Тусклая, как в загорщинской церкви.
На этот раз питье как полынь и белена — немеет небо и язык, темнеет в глазах.
— Пей, мужик. Бунтовать так слаще было, дуралеям.
...Какое облегчение. Теперь можно уже и говорить. И он спрашивает слабым, — ведь рот после сильной оскомины, — голосом:
— Где я? Почему?
— Лопата доставил. Я Гринь Покивач. А это Марта... Гм, Матерь Божья... И счастье, что ты у нас. Ведь издох бы, как собака, без причастья... Кто ж это грязной водой раны поливает, балда неразумная?
— Горели.
— Могли бы и совсем сгореть. Пока довезли — был у тебя уже антонов огонь. Кожа вокруг раны пошла пятнами. Вот оно как, пан Корчак. Панами быть восхотели — вот вам шкуру и выделали.
— Пятнами? — Под сердцем становится холодно. — Значит, конец?
Мельник пускает дым.
— Посмотрим, — говорит он. — Первые два дня воняла твоя рада. Посмотрим, как теперь.
— Не ругай его, — сухим голосом просит Марта.
— Как же не ругать, — не унимается Покивач, — если у него в кишках мозги. Забыл, что такое пан и что мужик.
Злость опять подкатывает под сердце Корчаку. И он поясняет:
— Мы как волки и как собаки... Одних щенков нам с ними... никогда... не плодить.
— Умный, — отметил мельник, — да только еще никогда волк не сторожил покоев, а собака не выла в ночном лесу. Так, значит, и не лезьте в компанию друг к другу, не протискивайтесь. Они, вишь, справедливости восхотели.
— Оби-ида.
— Ну, а если бы вы панами стали — не обида была бы? Кому-то все равно была бы обида. Может, еще и худшая. Нету хуже, как из хама пана, а из дерьма пирога.
Эти ворчливые слова злят Корчака, но он молчит.
— Может, и похуже, — продолжает Покивач. — Ведь все равно, кто сверху будет класть ноги на чужую задницу. Так у этих панов ноги более квелые, нежели твои ступни. Их ноги к угождениям и пляскам привыкшие, они такого пинка дать не могут, как ты в корчме.
— Их деликатность... изведал... В кресты стреляли, нехристи.
— Научили, — улыбается Покивач. — И правильно сделали, что научили. Вы ведь, трусишки, деревней от десяти убегали. Не с вашими зубами орехи есть. Хоть бы о том подумал, нападает ли в Янову ночь волк?.. Не-ет. Он ждет той ночи, какую ему Бог определил, он Филипповки ждет и тогда в сени залезает, чтобы собаку достать. Потому что Бог ему эту ночь дал для власти. А до того он молчит, он к селитьбе не пойдет, как вы... Полезли — и наложили всем селом в портки. Потому что как будто и вместе, а на деле — скотское стадо. Ничто вас не вяжет, каждому своя шкура дороже... Если не изменитесь — так вам довеку скотом и быть. Забодаете иногда одного, так сразу будет над вами новый кнут...
— Молчи, Гринь, — попросила Марта. — Ты что, забыл, что он ранен, что его злить нельзя?
— Да и ты молчи, — возразил Гринь. — Давай, вот, лучше перевязывай.
Марта развертывала белые тряпки на груди Корчака. Раненый почувствовал, как изболевшее тело мелкой дрожью отвечает на толчки боли: Марта отрывала полотно от раны.
— Тц-тц-тц, — почмокал Покивач.
— Плохо? — спросил Корчак, не раскрывая глаз.
— Лучше, — ответил мельник. — Но еще не совсем хорошо.
Его грубые руки достали откуда-то горсть сероватой с прозеленью вязкой массы и начали раскладывать по ране. Корчак ощутил приятный холодок.
— Поблагодари своего Бога: три дня не пекли... Лето, опресноками обходимся, — пояснила Марта. — Это плесень, которая в квашне на опаре вырастает, когда не пекут хлеба.
— Знаю, — признался Корчак. — Снимешь, а ниже хорошая.
— Ну вот, — продолжала Марта. — Если есть божья воля — поправишься.
Запах опары вернул Корчака к воспоминаниям о хате, о жене и детях. Потом он вспомнил хату и покойницу мать. Мать собиралась сажать в печь хлеб. «Иди сюда, сыночек», — говорила она. Он знал и подходил. Руки матери были голые выше локтей. «Наклоняйся», просила мать. И потом ее рука с сильным плесканием резко входила в надутое грибом тесто. Мать вырывала руку, и он, маленький мальчик, приникал носом к ямке в тесте, а оттуда — лишь на мгновение —