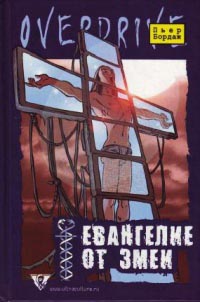Тех, которые tiennent au sang Allemand? Немцев? Камчадалов? Или, может, тех, кого нет, кто вышел на площадь, pour se faire mitrailler, и умер?
Но я не покажу тебе этого. У меня тоже нет ничего, кроме могил. Так меня учили».
Едут Ходанские. Снисходительная улыбка старого графа, слишком ласковая, чтобы ей можно было искренне верить. И Илья ничего себе зверек. Так и не сошлись ближе.
Мальчик проводит глазами каждую семью, будто она исчезает навеки, и не знает, что все это — нити того ковра, который ему придется ткать всю жизнь, долгой или короткой она будет. Некоторая нить будет идти почти сплошным фоном, серо-зеленым, как дождливый понедельник. Некоторая встретится полоской, узкой, на день работы. Некоторая промелькнет красной единственной ниточкой, но через всю жизнь. А вон той совсем не будет, так как хозяйка убедится, что нить не подходит общему колориту ткани, и снимет ее с веретена.
Кто хозяйка? А кто знает? Кто, вообще, что-нибудь знает?
Но нить исчезнет. А другая вырвется под самый конец, легкой дымкой у обреза, которую можно застегать, если будет не по вкусу жизни.
Люди пришли — люди и исчезают. И ему кажется, что исчезают навсегда.
И Майка с Мстиславом сегодня тоже исчезнут.
А вот направляется к лестнице цифра «20», братья Таркайлы
— Прощай, князь, — басом говорит Иван. — Смотри, Тодор, какой хлопец растет. Настоящий приднепровский рыцарь. Как вырастет — лучше с ним не связывайтесь, разные там англичане да турки. Даст — лужа останется. Го-го-го-гык!
Тодор кисловато улыбается. А Иван басит дальше:
— Наш... Наш... Приезжай, брат, ко мне — женю. Мы такого героя каким-либо сушеным рыбам и понюхать не дадим...
Ах, убирайтесь же вы поскорее с вашим рыцарством. Ведь Майка и Мстислав тоже уедут.
Отец ведет к карете старую Клейну, за нею идут Яденька и Янка.
— Прощай, верзила, — говорит старуха. — Ты гляди у меня. Рановато начинаешь бонвиванить да ферлакурить.
Она шутит, но паренек видит возле ее подола глаза красивой и грустной куклы. Ядвинька такая печальная, что жалость пронзает его легковесное сердце.
— Спасибо вам, милый Алесик. Все было хорошо, — грустно, совсем без укоризны, говорит Яденька. — Вы только не забывайте... нас: меня, и маму... и Янку. Мы будем грустить.
— Кто? Я? — спрашивает старая Клейна. — Я тебя на последний сейм не избирала, чтобы ты там «за меня» говорила, маленькая подлиза.
— Прощайте, Яденька...
...Ах, это ведь конец, конец! Вот уже и Раубичи выходят из двери. Раубичи! А за ними поедет Мстислав.
Желчно-красивое лицо Раубича серьезно. Холодные, с расширенными зрачками, страшные и все-таки чем-то привлекающие глаза снова ловят взгляд парня, испытывают, забираются медленно на самое дно души.
— Прощай, свет ясный, — с неожиданной теплотой говорит он, потому что Алесь вновь не отводит глаз. — Будь человеком. Люби Днепр.
— Прощайте, милая Майка.
— Прощайте, милый Алесь.
— Довольны ли... вы?
— Le plus beau bal, que j'ai vu de longtemps1, — отвечает за нее важный, как придворный, Франс.
А она не ответила, только кивнула головой.
— Майка... Через несколько дней я приглашу Когутов. Мне очень бы хотелось... Мы поедем смотреть руины старого замка. Я приглашаю Мстислава и... вас.
Майка поводит головою без особенного энтузиазма. И это такое неожиданное горе, что даже сердце падает куда-то.
— Михалина, — сурово говорит Раубич. — поблагодари хозяина. И поцелуйтесь, как хорошие дети.
— Спасибо вам, Алесь, — говорит она. — Прощайте.
Она приближает к нему личико, касается неподвижными губами его щеки и подает ему руку.
И в этот момент он чувствует в ладони что-то. Он неловко сжимает ладонь и смотрит на Майку.
Пошли. Все. Алесь идет в дом, спокойно — ведь на глазах всех — пересекает зал, а потом... Потом неистово бежит по лестнице на хоры, а оттуда, по винтовым ступенькам, на антресоли второго этажа, а затем, по приставной лестнице, на открытую башенку.
Он еще раз хочет увидеть повозку, которая везет ее.
...Бричка отдалялась. Рябь солнечных пятен скакала по ней, по коням, по людям, которых нельзя было уже отличить друг от друга. Все исчезло, и на дороге больше ничего не было.
Тогда он вспомнил о вещи, какую держал в руке, и разнял кулак. На ладони лежал детский железный медальон, сделанный почти в той же манере, что и браслет старого Раубича. Маленький нагретый медальон со стилизованным шиповником и всадником.
Он раскрыл его и увидел прядку пепельных, с золотом, волос и свернутую бумажку.
На бумажке было несколько слов из латинских и французских букв. Несколько нескладных, видимо, с большими рассуждениями написанных слов. И это не удивило его, ибо этого не делал никто, ибо слова были попыткой написать... по-мужицки.
И он с благодарностью, с какой-то внезапной надеждой разобрал:
«Kab nie zabywaw. Pryiazdjai».
XI
Он раскрыл глаза, и из темного моря бреда начали выплывать тусклые, но устойчивые образы.
Прежде всего пряди трав, растущие вниз сухими цветами. А корни их на дереве. Ах, как болит тело! Оно совсем чужое: руки и ноги свои и не свои, тяжелые, как свинец, и невесомые, близкие, вот тут, и очень-очень далекие. «Немного ближе от солнца, немного дальше от месяца».
Что это за травы? Ага, это они не растут, это они просто висят вниз сухими цветами, привязанные к обрешетинам. Это, наверно, какой-то мшаник, но какой?
Вот тени каких-то голов на бревенчатых стенах. Одна мужская, другая, видимо, какой-то женщины. Силы нет, чтобы повернуть свою голову и взглянуть на эти головы, от которых ложатся тени.
И почему тут горит свет, если за стеною день. Конечно, день, ведь он слышит пение дневных птиц. Если бы была ночь — кричала бы выпь. Где это она кричала намедни? На каких таких заливных лугах? Что там страшное было?
...Вспомнил! Они стреляли. Зевал старый Губа... А потом была та водяная курочка и бесконечный, нестерпимый путь...
Внезапно из его горла вырвался такой страшный крик, что он испугался за тех, чьи тени отдыхали на стене. Но пугался он напрасно, так как страшно это было лишь ему: только содрогнулись пальцы ног да из губ вылетел беззвучный писк, — те не заметили и не услышали.
Поняв это, он в отчаянии попробовал сказать слово, самое легкое слово, потому что перед глазами были трещины в стене и то, что между бревен.
— Мо-ох... о-ох...
— Стонет, — послышался женский