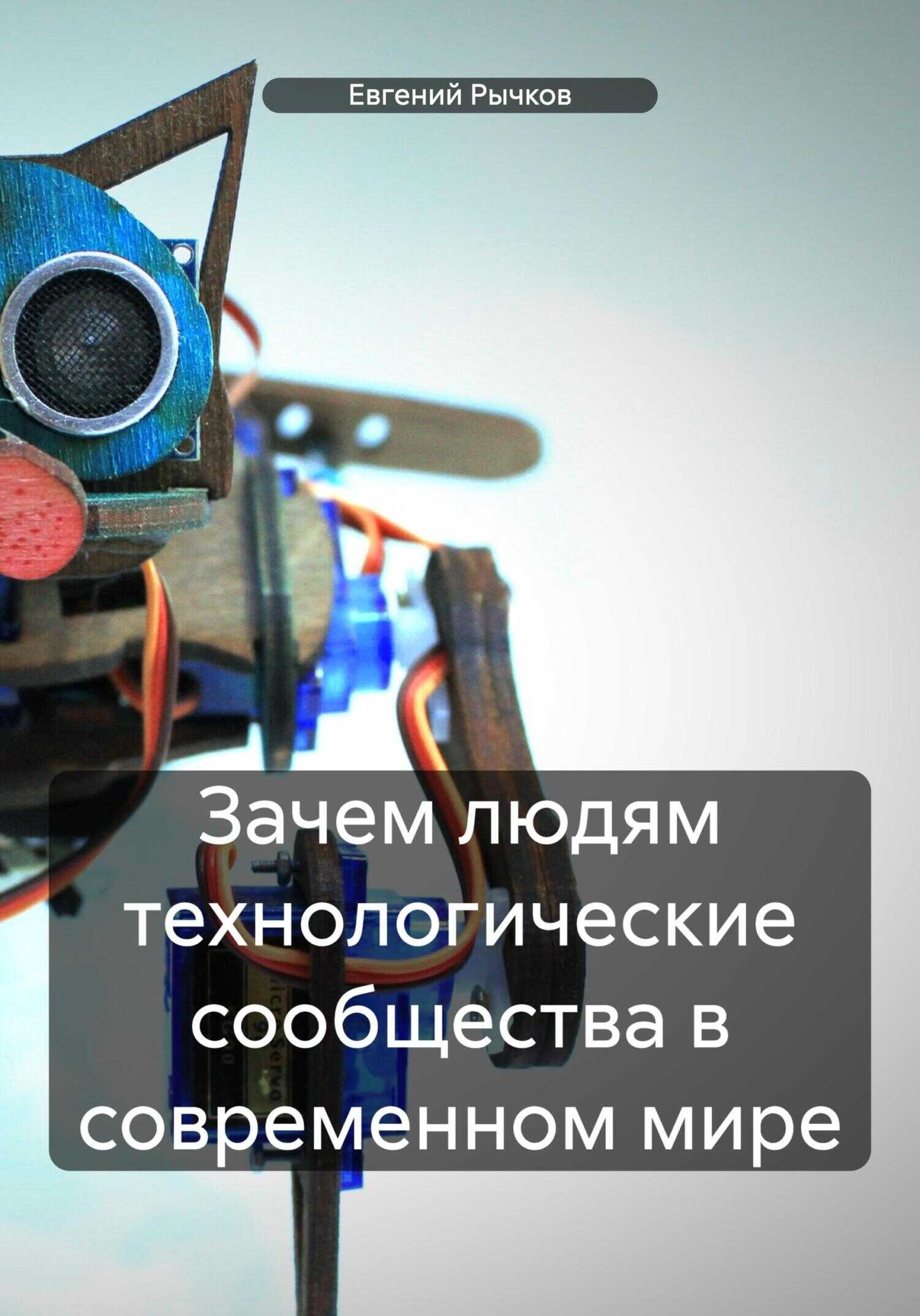когда великий парашютист обратился к нему на «ты». Распеги не очень-то жаловал штабных офицеров и всех прочих, кто был слишком тесно связан с генералами, а де Глатиньи когда-то был адъютантом главнокомандующего.
В очередной раз забрезжил рассвет, и на мгновение чей-то силуэт заслонил прямоугольник света, отмечавший вход в укрытие.
Силуэт наклонился, потом снова выпрямился. Человек в запачканной грязью форме осторожно положил свой американский карабин на стол, затем снял стальной шлем, который был надет поверх армейской панамы. Человек был босиком, брюки закатаны до колен. Когда он повернулся к Глатиньи, тусклый свет дождливого утра высветил цвет его глаз — светлый-светлый водянисто-зелёный.
Он представился:
— Капитан Буафёрас. У меня с собой сорок ПИМов и около тридцати раненых.
Два предыдущих конвоя были отброшены после попытки пробежать триста метров, что все ещё соединяли «Марианну»-II с «Марианной»-III раскисшим ходом сообщения, заполненным жидкой грязью, который находился под обстрелом вьетов.
Буафёрас вынул из кармана листок бумаги и проверил свой список:
— Две тысячи семьсот ручных гранат и пятнадцать тысяч патронов, но миномётных мин больше нет, и мне пришлось оставить коробки с пайками на «Марианне»-III.
— Как вам удалось прорваться? — спросил де Глатиньи, который не рассчитывал на дальнейшую помощь.
— Я убедил своих ПИМов, что они должны помочь.
Де Глатиньи внимательнее посмотрел на Буафёраса. Он был довольно невысокого роста, максимум метр семьдесят, с узкими бёдрами и широкими плечами. Телосложением он напоминал уроженца Тонкина: сильный и в то же время стройный. Если бы не крупный нос и полные губы его можно было бы принять за полукровку, а довольно резкий голос подчёркивал это впечатление.
— Какие последние новости? — спросил де Глатиньи.
— Завтра, с наступлением темноты, нас атакует трёхсот восьмая дивизия, самая мощная из всех; вот почему я выбросил пайки, чтобы принести ещё немного мин.
— Как вы это выяснили?
— Прежде чем нагнать конвой, я немного прогулялся среди вьетов и взял пленного. Он был из трёхсот восьмой и рассказал всё мне.
— Штаб меня не оповестил.
— Я забыл доставить пленного — он немного мешал, — так что они мне не поверили.
Говоря это, он вытер руки о панаму и достал сигарету из пачки де Глатиньи, которая была там последней.
— Огонёк найдётся? Спасибо. Могу я перебраться сюда?
— Вы не собираетесь возвращаться в Штаб?
— Для чего? Нам конец и там, и здесь. Триста восьмая полностью реорганизована, они собираются костьми лечь и зачистить всё, что ещё действует.
Де Глатиньи стало раздражать самодовольство новоприбывшего, а также тот презрительный блеск, который он видел в его глазах. Он попытался поставить его на место:
— Полагаю, всё это вам рассказал ваш пленный.
— Нет, но пару недель назад я проходил через район базы триста восьмой и видел, как прибывают колонны подкрепления.
— Значит вы способны прогуливаться среди вьетов, не так ли?
— Одетый как ня-куэ[3], я более или менее неузнаваем и довольно хорошо говорю по-вьетнамски.
— Но откуда вы взялись?
— С китайской границы. Я руководил там несколькими отрядами партизан. Однажды я получил приказ всё бросить и отправиться в Дьен-Бьен-Фу. На это у меня ушёл месяц.
В опорный пункт вошёл партизан-нунг в такой же форме, как и капитан.
— Это Мин, мой ординарец, — сказал Буафёрас. — Он был там со мной.
Он начал говорить с ним на его языке. Нунг покачал головой. Затем опустил глаза, поставил свой карабин рядом с карабином своего офицера, снял снаряжение и вышел.
— Что вы ему сказали? — спросил де Глатиньи, чье любопытство пересилило неприязнь.
— Я велел ему убираться. Он намерен дойти до Луангпрабанга через долину Нам-Оу.
— Вы тоже можете спастись, если попытаетесь…
— Возможно, но я не собираюсь. Я не хочу пропустить опыт, который может оказаться чрезвычайно интересным.
— Разве это не долг офицера — попытаться спастись?
— Меня ещё не захватили, и вас тоже. Но послезавтра мы оба будем пленными… или трупами, это всё есть в игре.
— Вы могли бы присоединиться к партизанам, которые окружают Дьен-Бьен-Фу.
— Вокруг Дьен-Бьен-Фу нет партизан, а если и есть, они в тесной связке с вьетами. И здесь мы потерпели неудачу, как и везде… потому что не вели правильную войну.
— Месяц назад я ещё работал с главнокомандующим. Он ничего от меня не скрывал. Я принимал участие в формировании всех этих групп и никогда не слышал ни об одной из них на границе с Китаем.
— Они не всегда держались границы, иногда даже проникали в Китай. Я получал приказы прямо из Парижа от службы при Председателе Совета. Никто не знал о моём существовании — так от меня всегда можно откреститься, если что-то пойдёт не так.
— Если нас возьмут в плен, вы можете получить от вьетов пулю.
— Они ничего про меня не знают. Я действовал против китайцев, а не вьетов. Моя война, если хотите, была менее ограниченной, чем ваша. На Западе, Востоке или на Дальнем Востоке коммунизм образует единое целое, и глупо думать, что нападая на одного из членов этого сообщества, можно локализовать конфликт. Несколько человек в Париже поняли это.
— Вы меня совершенно не знаете, но, кажется, уже доверяете до такой степени, что говорите вещи, которые я, возможно, предпочел бы не знать.
— Нам придётся жить вместе, господин капитан де Глатиньи, может быть очень долго. Мне понравилась ваша выходка, когда вы узнали, что Дьен-Бьен-Фу пропащее место и оставили главнокомандующего, человека вашего класса и ваших традиций, чтобы попасть сюда. Я истолковал это в том смысле, который вы, возможно, никогда не предполагали. На мой взгляд, вы покинули умирающий правящий класс, чтобы присоединиться к солдатам и черни, к тем, кто действительно сражается, к краеугольному камню любой армии.
Так де Глатиньи познакомился с Буафёрасом, который теперь лежал в нескольких метрах от него, такой же пленный, как и он сам.
* * *
Ночью Буафёрас передвинулся ближе к де Глатиньи.
— Эпоха героизма закончилась, — сказал он, — по крайней мере эпоха киногероизма. В новых армиях не будет ни полковых штандартов, ни военных оркестров. Они должны быть прежде всего эффективными. Вот что мы собираемся узнать, и это причина, по которой я не пытался сбежать.
Он протянул обе руки де Глатиньи, и тот увидел, что он выскользнул из пут. Но никак не отреагировал; Буафёрас даже наскучил ему. Всё доходило до него издалека, как эхо.
Де Глатиньи свернулся калачиком — вес тела приходился на выставленное плечо.
Горные хребты, окружавшие низину, отчетливо выделялись на тёмном фоне ночи. По небу плыли облака, и время от времени в тишине раздавался близкий или далёкий шум самолёта.