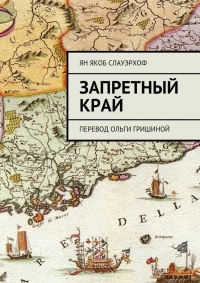людях, объединившихся в одном человеке. Первый презирал второго, иногда даже ненавидел, но был беспомощен, так как кожа у них была общая, поэтому он и старался запрятать второго как можно глубже.
Этого одного, но двуликого человека, городская история никак не называла, если не принимать во внимание те беззлобные штампы и повествовательные рефрены, в которых он представал как безликий, но вездесущий «один человек». Неизвестно, знали рассказчики о нем или нет. Но поскольку институт наушничества был им известен испокон веков, сложно представить, что нет, а судя по тому, насколько упорно они о нем молчали, можно с уверенностью сказать, что да. Странно при этом, что никто даже в самом беспробудном пьянстве не задел его никаким ругательством или не наградил каким-нибудь безобразным прозвищем. Выходит, нелегко было угадать, кто же из них тот самый «один человек», хотя в его существовании никто не сомневался. Очевидно, таких, кто мог бы бросить в него камень, было немного.
В пустой болтовне, в этом развлечении бедноты, целыми днями они охотнее всего рассуждали об огромном богатстве, которое он мог бы выручить за коллекцию, если бы только захотел ее продать. Вслух мечтали, что бы каждый из них сделал с такими деньжищами, возьмись они откуда-нибудь. Особенно они любили, потягивая винцо и лениво сквернословя, подсчитывать, сколько все это может стоить. Заломят какую-нибудь сумму, повертят ее немного так и сяк, а затем дивятся такому, уму, который способен открыть миллионы во флакончике, а любой другой отшвырнул бы с дороги или отдал поиграть подросшему ребенку. Крошечный, смотреть не на что, а вон и за полмешка долларов его не купишь, но сперва Бог тебе должен дать глаз, чтобы суметь рассмотреть в нем ценность, друг мой. Я бы мимо такой стекляшки прошел сотню раз, и все, что сделал бы, будь трезв, это постарался не наступить на чертову штуковину, чтобы не порезаться. Может, я бы ее и подобрал, чтобы выкинуть в мусор, а вот видишь, есть и те, для кого это чистое золото. Ты только подумай обо всем этом добре, что наши старики разбросали, потому что им не хватило ума понять, чем они владеют. Эту арию распевали с модуляциями и преувеличениями, пока не срывали голос. Выдумывали, как бог на душу положит. Немного нашлось бы таких, кто в детстве или даже совсем недавно, не видел флаконов и флакончиков, один краше другого. На чердаке, у матери-старушки, в сараюшке, в буфете, у тетушек, на свадьбе дядьев, в комоде, в чулане, и где только не. Вот только кто ж тогда знал, насколько все это дорогое. Эх, все мы крепки задним умом.
Они с удовольствием болтали о продаже коллекции. Соревновались в том, сколько и какой заграничный покупатель предлагал за отдельные флакончики. А сколько за десяток отобранных, да за все вместе. Суммы и валюту называли, не задумываясь, «с потолка». А люди это были бережливые, в общей массе своей очень небогатые, иногда назывались суммы до небес, а иногда совсем незначительные, но всегда невпопад. Ведь они, в сущности, обо всем этом понятия не имели, что нисколько не умаляло сладость воображаемой торговли. Им льстило, что они верят и рассказывают, каким огромным спросом пользуется его коллекция, и о его решимости не продавать ни за какие деньги. Откуда только, по их словам, ни приезжают самые настоящие миллиардеры и миллиардерши, толстосумы, фабриканты, их закупщики, поверенные, адвокаты, наследники и оценщики, и бог весть кто еще. Они его упрашивают, беспрестанно умоляют продать, а он только качает головой. Одни его пугали возможным ограблением, мол, плохо охраняется, другие — государством, что оно в один прекрасный день все это экспроприирует. Он и на это промолчит, но мало найдется тех, кто такого не боится. Ему предлагали работу: лично присматривать за коллекцией и пожизненно управлять ею за огромные деньги, лишь бы согласился на продажу. Выплясывают вокруг него, вьются, надеются, но он и слышать не хочет. Стойкий, как Варадинская крепостная стена. Нет и нет. Ни по-плохому, ни по-хорошему, ни обманом, ни богатством. Не хочет. Надо было слышать, с каким наслаждением они подчеркивали его благородное упрямство, которое им, очевидно, весьма импонировало, это надо было слышать! Человек им ясно говорит: нет, спасибо, но им, кажется, мало. Некоторые считают, что это он так торгуется. Они думают, что любой падок и жаден до денег, как и они сами, и только покажешь человеку ассигнации, и вот он — на блюдечке. Э, милый, здесь такое не пройдет. Это вам не мелкий торгаш и нищий, чтобы деньги его ослепили, а ученый человек, господин, а дом — с вековыми традициями. Если бы из него все так легко распродавалось, как хотелось бы всяким дуракам несусветным, сейчас бы в нем щепочки не осталось, ведь там каждая вещица стоит дороже, чем кажется на первый взгляд. Больше двухсот лет в этот дом только приносят, друг мой. Теперь думают, что нашли того, кто все это разбазарит. Не тут-то было! Это, брат, его жизнь. Вся душа его разлита по тем флакончикам. Сердце его бьется не в груди, как у всех, а на левой стороне этой коллекции. — Их мнение, что коллекция — это какое-то человекоподобное цельное существо, было абсолютно серьезным. Поэтому они всегда ее пылко защищали от тех упорных покупателей, которых сами же и выдумывали. — Вот, например, если кто-то попросит тебя продать свой локоть, или палец, или шею. Возможно ли такое? Само собой, нет. И как это им, образованным людям, не ясно, удивлялись они. Коллекцию невозможно разделить на части. Не дай бог, злая судьба принудит его продать все. Он сей же час и помрет. Сердце его разобьется на мелкие кусочки, как замерзшее стекло в горячей воде. Нет ни злата, ни серебра, на которое бы он взглянул, кроме того, что он собирал больше тридцати лет. Напрасный труд. Пусть посмотрят, пусть подивятся, и скатертью дорога, слава богу, тут не базар и не ярмарка.
Время от времени кто-нибудь из них подольет масла в огонь, лишь бы поддеть разгорячившихся защитников, и спор вспыхнет пуще прежнего. Скажет, например, он — обычный трус. Страшится того, что имеет. И он вовсе не создан для богатства. Скукожился и понурился, не дает ему трусость зацапать миллионы и жить как царь царей, там, где ему на белом свете понравится. Тут месяц, там год, там пять недель, здесь три дня. Когда захочется, прохлаждаться в сосновом бору, а как перехочется, лежать на горячем песочке, чтобы ублажали его загорелые