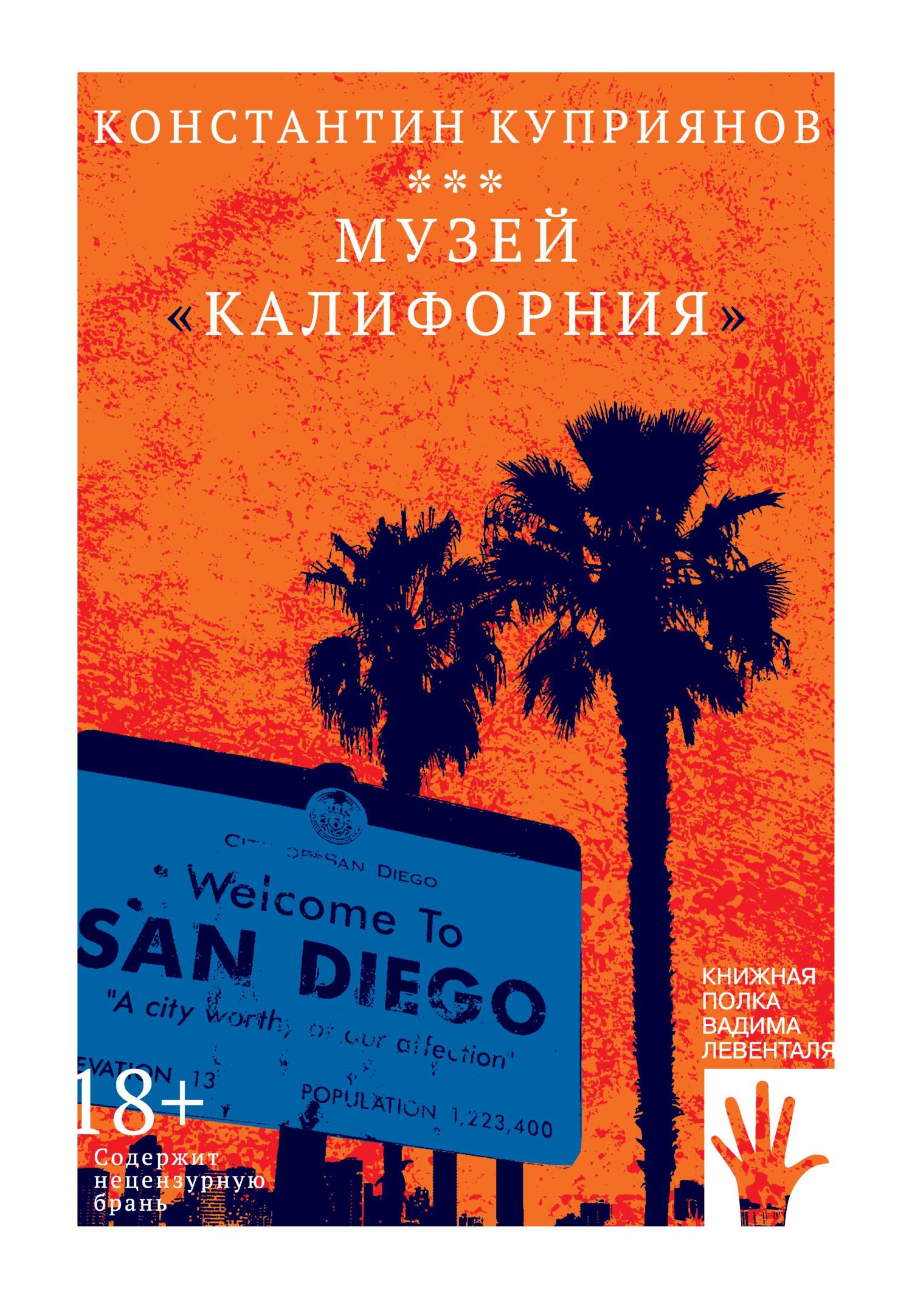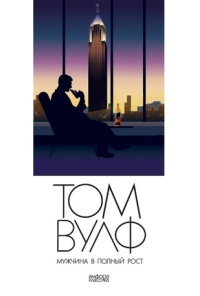заметила высоко на карнизе соседнего здания очертания мужской фигуры. Она прищурилась, растерялась и уже готова была испугаться. Но затем с волнением узнала одну из статуй Энтони Гормли[3], усеявших той весной карнизы Нью-Йорка. На крышах жилых и деловых кварталов появились зоркие наблюдатели, которые, казалось, разговаривали не со смертными, сновавшими по тротуарам внизу, а с пространством над застройкой, уходящим ввысь. Стоит сделать шаг — и упадешь с двадцатого, тридцатого, пятидесятого этажа.
Что это за пространство, уходящее ввысь, гадала про себя Джейн. Каковы на вкус потоки воздуха между жизнью и смертью? Неужто стремительное падение на землю с высоты внедряет вас в смерть глубже и быстрее, чем обычная кончина во сне? А если вы находитесь под действием морфия, то уходите целиком или по частям, оставляя в комнате свои парящие фрагменты? Джейн много думала об этом после смерти Карла. Как могла она удостовериться, что все лучшее, что в нем было, уйдет вместе с ним? Казалось, какие-то его частички остались тут. Женщина вновь и вновь повторяла про себя дорогое имя, как бы компенсируя тот факт, что теперь редко произносила его вслух. Она скучала по Карлу — мучительно, душераздирающе, убийственно. Ее тело так и не приспособилось к одиночеству. Всю зиму она нуждалась в дополнительных одеялах. Теперь, очутившись в Нью-Йорке, Джейн еще больше, чем когда-либо, жаждала общения с ним. Она не подозревала, что, когда путешествуешь в одиночку, почти все время молчишь, если не считать приветствий, которыми обмениваешься с гостиничным персоналом на стойке регистрации, и коротких диалогов с официантами. И некому было поведать о тех вещах, которые она видела впервые в жизни. «Я здесь! — хотелось взахлеб рассказывать всем подряд. — Я в Нью-Йорке!»
Возможно, на всех этих крышах действительно стоял Карл — не тридцать одна статуя из чугуна и стекловолокна, а ее муж, наблюдавший за ней, пока она передвигалась по городу. Повинуясь порыву, Джейн помахала статуе и улыбнулась.
Она доехала на электричке от Канал-стрит до Пятьдесят третьей улицы, радуясь тому, какой знакомой сделалась эта улица за последние три дня. Прошла мимо кофейни «Данкин донатс», откуда доносился аромат горячей выпечки, поднялась по лестнице. Тротуар был испещрен серыми пятнышками жвачки, которые Джейн вначале приняла за конфетти. Ее окружали беспрестанный рев машин, нескончаемое мельтешение пешеходов. Но между зданиями носился невесть откуда взявшийся свежий морской ветер. На этот раз Джейн не привезла на экскурсию группу учеников. И не пыталась ничего объяснить Карлу. Ей нужно было думать только о себе, и уже очень давно. Зато как здорово, что в ее распоряжении еще целых две недели и можно делать все, что заблагорассудится.
Джейн опять задумалась над помещенным на стене атриума текстом, который она перечитала несколько раз:
Перформанс «В присутствии художника» деформирует грань между повседневной обыденностью и ритуалом. Привычное сочетание стола и стульев, будучи размещено в огромном атриуме, внутри светового квадрата, переносится в иное пространство.
Посетителям предлагается молча сидеть напротив художницы на протяжении самостоятельно выбранного ими отрезка времени, становясь скорее участниками, а не зрителями творческого акта.
Хотя Абрамович молчит, сохраняя почти скульптурную неподвижность с неизменяемой позой и пристальным взглядом, этот перформанс — приглашение к участию и довершению уникальной ситуации…
Слово «грань» («деформирует грань между повседневной обыденностью и ритуалом») заставило Джейн нахмуриться. Это напоминает о том, что Карл умер, подумала она. Его смерть деформировала повседневную обыденность. Его уже нельзя позвать к ужину или попросить починить сломанный замок на задней двери. И все же ей так отчаянно хочется верить, что Карл до сих пор слышит ее и видит. Когда-то она в течение многих недель ежедневно твердила: «Пожалуйста, Господи, пусть ему станет лучше… Пожалуйста, не позволяй ему умереть». А потом: «Пожалуйста, Господи, позволь ему умереть. Пожалуйста, не заставляй его больше страдать». Но Господь оказался бесполезен, он годился лишь для того, чтобы было кому адресовать подобные мольбы.
Подобным же образом Джейн молила цветы в своем саду, дуб в начале подъездной дорожки, облака над теплицей. И даже кувшинки на репродукции картины Моне в их спальне. Она искала любую силу, которая могла бы превратить повседневность в нечто большее, чем битва времени и биологии. Но реальность ни на йоту не изменилась. Он умер, ее Карл, и кончина его вовсе не была легкой. Он противился. Страдал. Боялся. Отчаянно цеплялся за жизнь.
Джейн держала на консоли в прихожей рядом с его фотографией зажженную свечу и каждый раз, выходя из дома или возвращаясь, говорила: «Привет, Карл». Она продолжала накрывать ему на стол. Еду, конечно, не подавала (из ума она еще не выжила), однако клала нож, вилку, ставила тарелку, стакан с водой, и ей это казалось совершенно естественным. Джейн не была готова отпустить его и считала, что он тоже не был готов. Иногда ей чудилось, будто Карл сидит в своем кресле. Так они и коротали вечер: она читала, он просто молчал. Иногда Джейн включала для Карла бейсбол, и это ему тоже как будто нравилось. Она существовала где-то посредине между повседневной обыденностью и ритуалом. Ритуалом прощания. Это называлось скорбью, но куда больше напоминало вечер на ферме. Запахи и звуки усилились, и подключились другие ощущения. Текстура, память, масштаб. Скорбь жила собственной напряженной жизнью.
— Будь она картиной, это был бы Ренуар, — раздался за спиной Джейн женский голос.
— Без танцев и весенних цветов, — откликнулся мужской голос.
— Боже, тебе не кажется, что ей наверняка ужасно скучно? — спросила женщина.
Абрамович сидела теперь напротив женщины в нежно-голубой футболке. Они были ровесницами и разглядывали друг друга с пристальным вниманием.
Потом Джейн услышала, как женщина позади нее спросила:
— Как думаешь, это искусство — то, что она делает?
— А что такое, по-твоему, искусство? — спросил мужчина.
Джейн оглянулась и увидела мужчину и женщину в одинаковых плащах. Женщина наверняка была его третьей женой. Она явно лет на двадцать младше.
— Мне не хочется с тобой спорить, — заявила женщина.
— Но я не спорю, — возразил он с тягучим акцентом, выдававшим в нем жителя Среднего Запада. — Ты должна понять, что от искусства толку нет. Если все пойдет к чертям собачьим, нас спасет не искусство. Никому до него дела не будет. Ты не можешь спастись от смерти, сочиняя книжки или рисуя картины. Сидеть — это не искусство, сколько ни высиживай.
— Тогда чем же она занимается? — спросила женщина, не отрывая взгляда от двух женщин в центре атриума.
— Сидит, — сказал мужчина. — И ничего больше. С таким же успехом могла бы