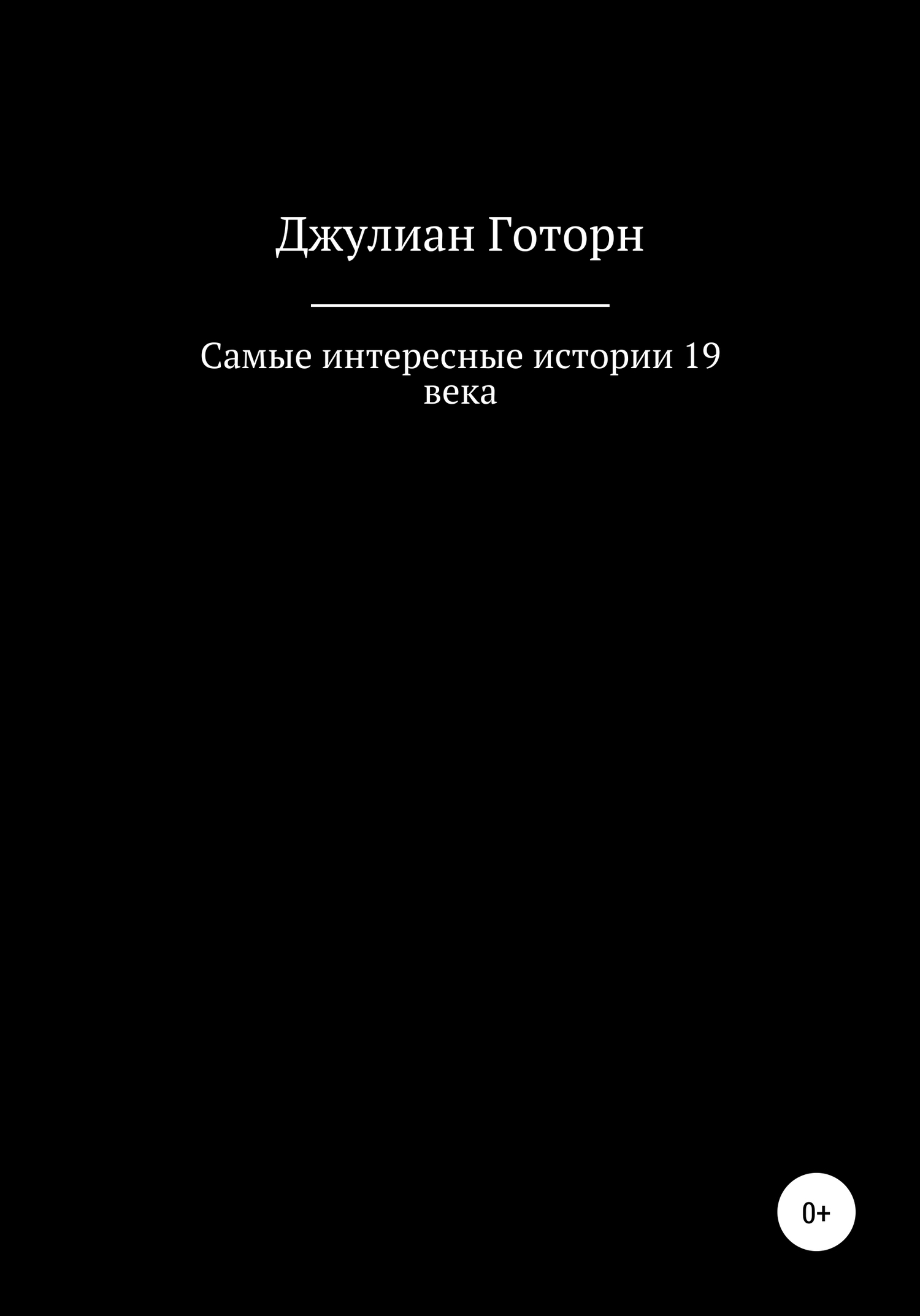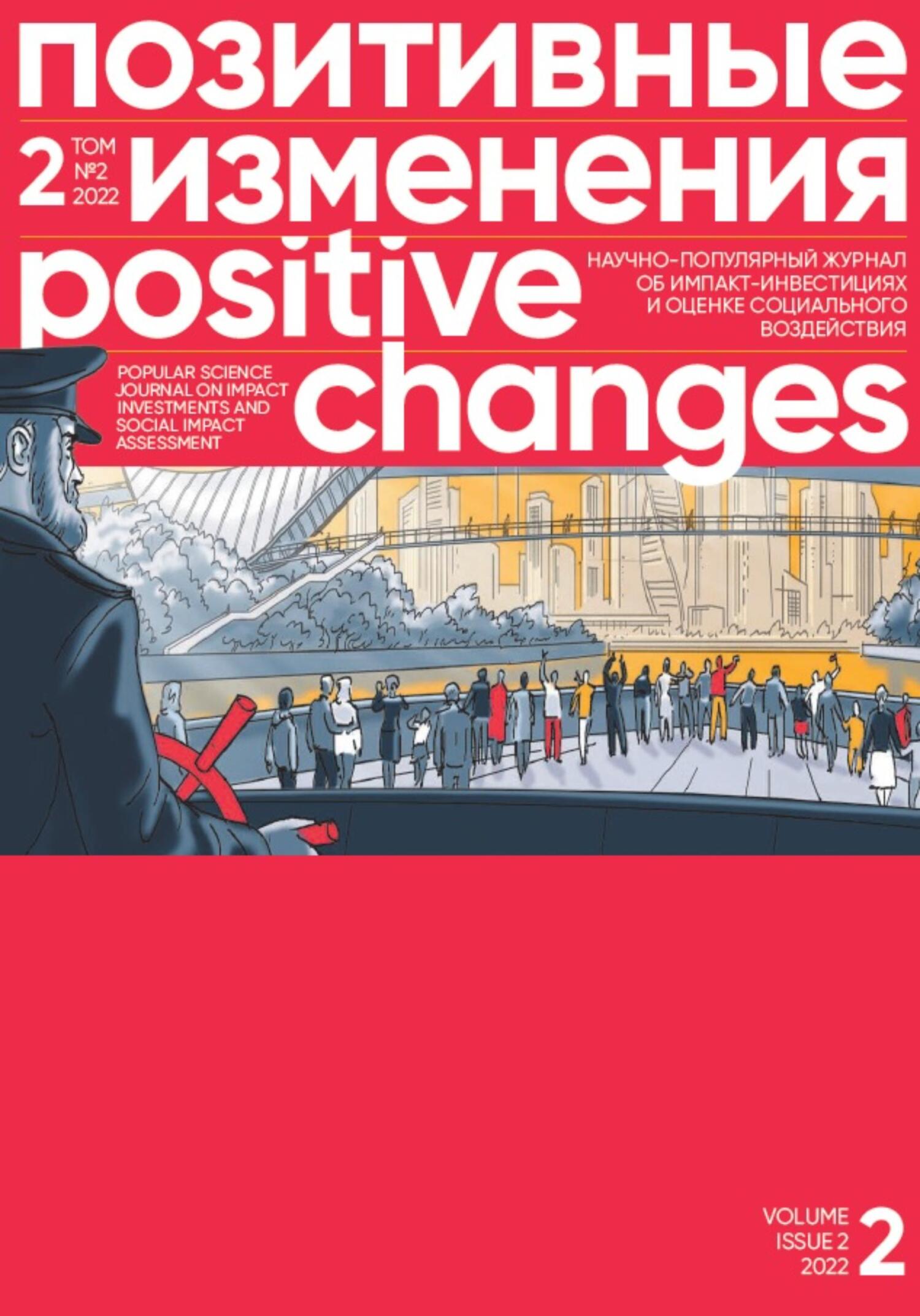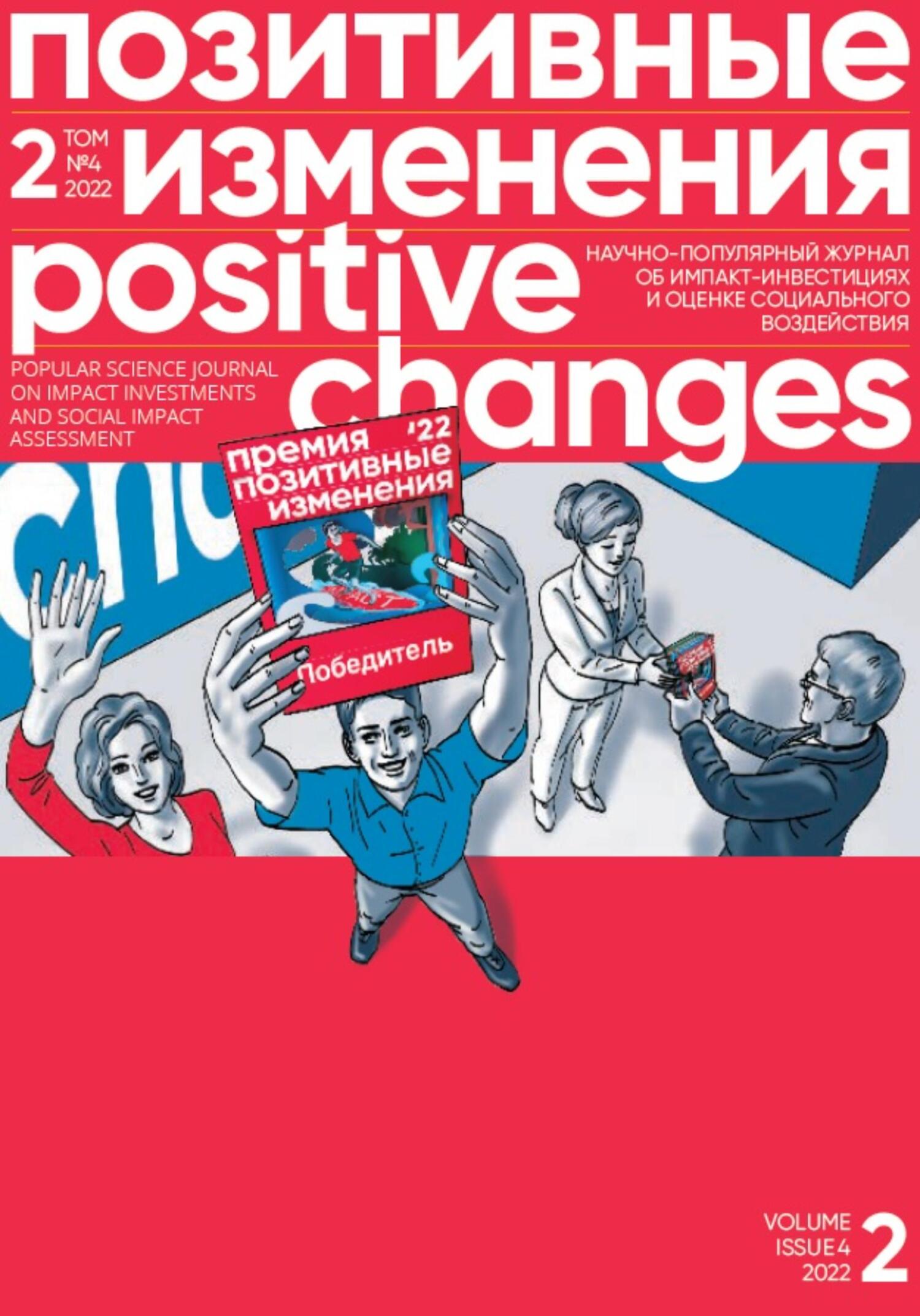намерен построить себе дом – обширный, крепко срубленный из дубовых брусьев дом, рассчитанный на много поколений вперед, – на месте, которое прежде было занято лачугой Мэтью Моула, деревенские кумовья часто покачивали между собой головами. Не выражая положительно сомнения в том, чтобы могущественный пуританин действовал добросовестно и справедливо, во время упомянутого нами процесса они, однако, намекали, что он хочет строить свой дом над могилой, не совсем покойной. Дом его будет заключать в своих стенах бывшее жилище повешенного колдуна, следовательно, даст некоторое право духу Мэтью Моула разгуливать по новым покоям, где будущие молодые четы устроят свои спальни и где будут рождаться на свет потомки Пинчона. Ужас и отвращение, внушаемые преступлением Моула, и страшное воспоминание о его казни будут омрачать свежую штукатурку стен и заранее сообщат им запах старого, печального дома. Странно, что, имея в своем распоряжении столько земли, усеянной листьями девственных еще лесов, полковник Пинчон выбрал для своей усадьбы именно это место!
Но пуританин-воин и вместе судья был не такой человек, чтобы отказаться от своего обдуманного плана из страха привидений или из пустой чувствительности, каково бы ни было ее основание. Если б ему сказали о вредном воздухе, это, пожалуй, еще сколько-нибудь подействовало бы на него; что же до злого духа, то он готов был сразиться с ним во всякое время. Одаренный массивным и твердым смыслом, как кусок гранита, и укрепленный сверх того, как железными связями, непоколебимой стойкостью в своих намерениях, он, что бы ни задумал, оставался до конца верен своему замыслу, не допуская и мысли, чтобы можно было возражать против него. Что касается до деликатности или какой-нибудь щекотливости, происходящей от утонченного чувства, то полковник был совершенно к ним неспособен. Итак, ничто не мешало ему рыть погреб и закладывать глубоко основания своего дома на том самом месте, которое несколько десятков лет назад Мэтью Моул очистил впервые от лесных листьев. Замечательно – а по мнению некоторых, даже знаменательно – обстоятельство, что не успели работники приняться за дело, как упомянутый выше источник совершенно потерял прекрасные свойства своей воды. Были ли его водяные жилы нарушены глубиной нового погреба или здесь скрывалась более таинственная причина, только известно, что вода в Моуловом источнике, как продолжали называть его, сделалась жесткой и солоноватой. Она и до сих пор остается такой, и каждая старуха в соседстве будет уверять вас, что от нее зарождаются разные внутренние болезни.
Странно, может быть, покажется читателю, что хозяин плотников, работавших над новым домом, был не кто иной, как сын того самого человека, у которого отнята была его собственность. Вероятно, он был лучший мастер в свое время, а может быть, полковник считал нужным – или подвигнут был каким-нибудь лучшим чувством – отвергнуть при этом случае всю вражду свою против следующего поколения павшего соперника. Впрочем, такова была спекулятивность тогдашнего века, что сын готов был заработать честные деньги – или, лучше сказать, порядочное количество фунтов стерлингов – даже у смертельного врага своего отца. Как бы то ни было, только Томас Моул был архитектором Дома о Семи Шпилях и исполнил свое дело так честно, что дубовая постройка, сооруженная его руками, держится до сих пор.
Итак, огромный дом был выстроен. Сколько я его помню, он всегда был стар, а я помню его с детства: он уже и тогда был предметом моего любопытства, как лучший и прочнейший образец давно прошедшей эпохи и вместе как сцена происшествий, исполненных интереса, может быть, гораздо в большей мере, нежели приключения серых феодальных замков; он всегда был для меня древним домом, и потому мне очень трудно представить блеск новизны, когда впервые его озарило солнце. Впечатление настоящего его положения, до которого дошел он в течение ста шестидесяти лет, неизбежно будет омрачать картину, в какой мы бы желали представить себе наружность дома в то утро, когда пуританский магнат зазвал к себе в гости весь город. В доме должно было совершиться освящение вместе с праздником новоселья. После молитвы и проповеди почтенного мистера Гиггинсона и после пения псалма соединенными голосами собрания для чувств более грубых готовилось обильное возлияние пива, сидра, вина и водки, и, как известно было кое от кого, надобно было ожидать также зажаренного целиком быка или по крайней мере разрезанных искусно частей говядины в количестве, равном весом и объемом целому быку. Туловище козы, застреленной в двадцати верстах, доставило материал для обширного паштета. Треска в шестьдесят фунтов, пойманная в заливе, разварена была в прекрасную уху. Словом, труба нового дома, выбрасывая на воздух кухонный дым, наполняла всю окрестность ароматом говядины, дичи и рыбы, обильно приправленных душистыми травами и луком, так что один уже запах такого праздника, долетая до каждого носа в городе, был вместе и приглашением, и возбуждением аппетита.
Переулок Моулов, или, как его назвали теперь гораздо великолепнее, Пинчонова улица в назначенный час была наполнена народом; каждый, подойдя к дому, осматривал снизу доверху величавое здание, которое с этого времени должно было занять свое почетное место между жилищами всего рода. Оно несколько удалилось от черты улицы, но скорей из гордости, нежели из скромности. Весь фасад его был украшен странными фигурами, произведением грубой готической фантазии, вылепленными выпукло или вырезанными на блестящей штукатурке из глины, кремней и битого стекла, которая одевала деревянную работу стен. По всем углам семь остроконечных фронтонов со шпилями возносились к небу и представляли вид целой семьи строений, дышавшей посредством одной огромной трубы. Многочисленные перегородки в окнах, со своими мелкими, вырезанными алмазом стеклами, пропускали солнечный свет в залу и в другие покои, между тем как второй этаж, высовываясь вперед над первым, бросал тень и меланхолическую мрачность в нижние комнаты. Деревянные шары, украшенные резьбой, были прикреплены под выступами верхнего этажа. Небольшие железные спирали украшали каждый из семи шпилей. На треугольнике шпиля, глядевшего на улицу, в то же самое утро укреплены были солнечные часы, на которых солнце показывало все еще первый светлый час истории, которой не суждено было продолжаться так же светло. Вокруг дома земля была еще завалена щепками, обрезками дерева, досками и битым кирпичом; все это, вместе с недавно взрытой почвой, которая не успела еще порасти травой, усиливало впечатление странности и новизны, какое производит на нас дом, не совсем еще занявший свое место в повседневной человеческой жизни.
Главный вход, почти равнявшийся шириной церковной двери, находился в углу между двумя передними шпилями и был прикрыт открытым портиком, под которым устроены были скамейки. И вот