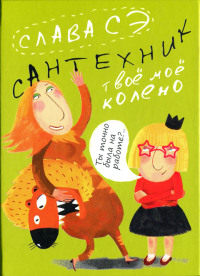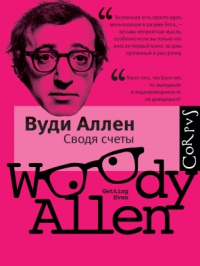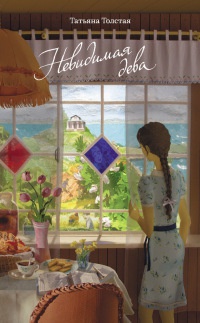– Нет уж, Георгий Николаевич! – шутливо запротестовал Бобович… По видимости шутливо, но чувствовалось, как сильно ему хочется солировать, – право быть Шахерезадой я заслужил больше вашего.
– Так и быть! – уступил Бучнев, расстроенный, как подросток, у которого взрослые приятели отобрали с трудом раздобытую им папироску.
– Представьте себе, – увлеченно заговорил инженер, – одинакового диаметра шарообразные туловища, одинаково короткие ручки-ножки и круглые головы, совершенно лысые, если не считать взъерошенных пучков волос на затылках. Носы, усы и бороды разные, но надобно было лицом к лицу столкнуться, чтобы понять, Курошев перед вами или Александрин. И вот эти-то два геометрически тождественных существа кипели взаимной ненавистью.
– Эзра Исаакович, – взмолился Георгий, – позвольте теперь мне!
– Что ж с вами поделаешь… – неохотно согласился инженер.
Ура! Папироску, конечно, отобрали, но хоть позволили разок-другой затянуться – и Георгий немедля включился в повествование.
– Бытовала даже такая байка: хочешь получить высокий балл у Курошева, заприметь его в коридоре, умудрись подкрасться сзади и смачно плюнь на лысину. А когда он, возмущенный, обернется, вскричи: «Ах, простите великодушно! Я-то думал, что плюю на Александрина!» Если же сдавать что-нибудь Александрину, проделайте с ним то же самое, но сошлитесь на желание оплевать Курошева.
– Однако ж шутки шутками, – вздохнул Бобович, дождавшись, пока слушатели отсмеются, – но руководил моей работой Александрин, а в аттестационной комиссии очередь была председательствовать Курошеву. И они сцепились так, что своей сварой защиту мне едва не завалили. Какое уж там ассистентство, бежал я в родной Крым «быстрее лани, быстрей, чем заяц от орла»! И еще счастлив был, что с дипломом бежал… Думаю, однако, нам пора одеваться?
Двигатель огромного авто угрожающе порыкивал, зато моторы машин сопровождения захлебывались от ярости. Так несется стая одичалых собак, когда любой звук, исходящий от вожака, шавки подхватывают, не щадя связок.
Волошина усадили рядом с водителем головного автомобиля, а Гунн вольготно раскинулся сзади, лениво прислушиваясь к бормотанию толстяка.
… – Ведь почему именно корсиканец? Почему не Ней, не Даву, не Массена, наконец, которого сам Бонапарт называл гением? Да потому, что французы для корсиканца – не свои. Ему их было не жалко. Бисмарк когда-то обмолвился: социализм, мол, – теория интересная и неплохо было бы опробовать ее на ком-нибудь, кого не жалко, на русских например. Вот и Бонапарт опробовал идею неестественно быстрого создания империи на чужих – кого не жалко… Думаю, что слепой порыв русских тоже оседлает какой-нибудь инородец.
– То есть «слепым порывом русских» вы именуете революционный энтузиазм масс? – спросил Гунн с издевкой. – И вождь найдется исключительно среди инородцев? Кого же предвидите – еврея? Поляка?
– Еврей? Нет, в России вождь-еврей невозможен. Вот на второй, самой мерзкой роли – пожалуйста… Поляк? Вряд ли. Полякам на Руси исстари не верят. Будет кто-то, сейчас совсем не ожидаемый. Может быть, даже вы, мадьяр.
Колени резко подавшегося вперед видного деятеля Коммунистического Интернационала через спинку сиденья больно уперлись в позвоночник Волошина – и тот почувствовал себя тем иудейским священником первой череды Иосифом, попавшим в фавор после того, как, согласно его предсказанию, военачальник Веспасиан Флавий стал принцепсом…
И тошно стало вдвойне, и добавил поспешно:
– Но нет, мадьяр во главе России… слишком уж экзотично.
Часовые веселились: солнце сделало свое дело, и на фоне свежего белого белья лица, шеи и кисти рук арестантов пламенели.
– Белые-то красными заделались! – роготали чекисты. – Поздно, раньше надо было перекрашиваться!
Но узники на это внимания не обращали. Они сгрудились вокруг Бобовича и Бучнева, переместившихся в тень недавно зазеленевшего платана, и вслушивались в их подчеркнуто приязненный диалог.
… – Не сочтите, Эзра Исаакович, мой вопрос бестактным, но если б предлагавшийся подполковником псевдосуд состоялся, какое из местоимений вы, караим, употребляли бы в отношении еврейства: «они» или «мы»?
– Мог бы, Георгий Николаевич, употреблять «они», коль скоро караимы уравнены были в правах с православными, но именно по этой причине говорил бы «мы», дабы не прикидываться безучастным…
– Понимаю вас, но тогда вот еще о чем скажите: почему, как вы думаете, вызывают неприязнь именно ашкеназы, а не, скажем, грузинские евреи, горские или бухарские? Только ли потому, что немецко-польских евреев гораздо больше?
– И это тоже, коллега, – согласился Бобович. – Да-да, не оговорился – именно коллега! Хоть курс вы и не закончили, но стивидорское ваше мастерство общеизвестно, а потому оба мы, каждый по-своему, обихаживаем суда. То, что вы назвали, – причина наглядная, но давайте порассуждаем объемнее. Все, что идет от Запада или с Запада, в России воспринимается либо как опаснейшая угроза, либо как величайшее благо. Проникающее же, условно говоря, с Востока – это нечто человекоподобное, смешное и симпатичное, – не горилла, а так, макака. Польский еврей – прежде всего польский, то есть особенно хитрый лях; немецкий – частично немец, тем паче что языки, немецкий и идиш, весьма схожи. И дела нет, что в Польше антисемитизм злее, нежели в Великороссии, настолько злее, что на медицинских факультетах польских университетов евреи обязаны слушать лекции стоя, а при демонстрации пациенток-католичек – вообще выходить из аудитории. Причем на таком порядке настаивают не власти, а сами студенты-поляки, в то время как в университетах великоросских сочувствие студенчества к евреям едва ли не назойливо. Если хотите знать мое мнение, стойких антисемитов в России нет вообще. Есть либо юдофобы, либо юдофилы. Фобия оттого, что евреи с Запада пришли, стало быть, враги; «фило» – тоже оттого, что с Запада пришли, стало быть, привнесут что-то светлое и умное.
– Полная чушь! – просипел Комлев.
– Не скажите, господин капитан! – возразил Покровский-младший. – Мысль странная, но не абсурдная. И продолжу ее: мало того, что юдофилия с примесью заискивания, так еще и юдофобия – с отзвуками скулежа… Ты со мной согласен, Александр?
– Да, брат! Вполне согласен, хотя такие резкие суждения обычно тебе не свойствены.
– Развейте, господин инженер, – вступил Павел, – одно давнее мое недоумение. Британские евреи, насколько известно, не выказывают антипатию к Диккенсу за то, что в «Оливере Твисте» тот вывел отвратительного еврея Феджина. Или к Шекспиру за Шейлока из «Венецианского купца». Зато многие мои одесские приятели-евреи чувствовали себя чуть не лично оскорбленными Гоголем за то, как он в «Тарасе Бульбе» написал о жидах.
– Брезгливо написал, – ответил Бобович, не раздумывая, – в этом-то все дело! Злодей всегда величественен, а у Гоголя жиды – жалкие и пресмыкающиеся… Да и не только в литературных образах дело. Назовите вы негодяя негодяем, и даже ближайшие его родственники признáют, хотя бы в глубине души, вашу правоту. Но когда вполне положительных людей все время подозревают в скрытом негодяйстве, когда даже про желающего стать «своим» говорят: «Жид крещеный – что вор прощеный», – это унижение постоянное, безысходное, порождающее мстительность… Теперь предвосхищаю вопрос, который у многих на уме, а у Михаила Владимировича Шебутнова был и на языке: соразмерно ли активнейшее участие евреев в революции тем обидам и унижениям, что творила в отношении них прежняя власть? Нет, не соразмерно, а чудовищно больше – к несчастью для русского народа ныне и для еврейского народа в будущем. Однако сетовать на такое можно, а отменить нельзя; это не случайность, а действие закона Гука.