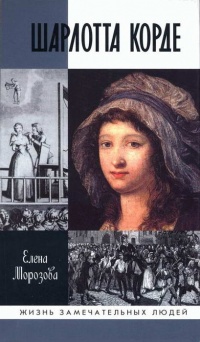тот столь почтительно поклонился, что невольно расположил его к себе. Османа накормили теми же кушаньями, что подали к общему столу, но, к удовольствию обеих сторон, подали ему отдельно, на кухне. Во время молитвы мысли Лисицы были далеко от благодарственных слов, обращенных к Богу; он размышлял о будущих делах и отчего-то невольно тревожился, хотя, казалось бы, сотню раз ему приходилось уходить из обжитых мест, чтобы никогда не возвращаться. Одновременно он думал и о минувшем, и в душе творилась сумятица – будто неожиданно пришлось взглянуть в зеркало, но вместо собственного отражения в нем появилось нечто иное.
Тяжелый запах свечи из животного жира повис над столом, и к нему примешивался прогорклый аромат подгоревшего лука. Сегодня разговорчивостью не отличался и сам господин Дом, и ужин прошел в полном молчании. Анна-Мария нарочно не глядела в сторону Лисицы, и по ее беспокойно поджатым губам и ускользающему взгляду он понял, что она-то, в отличие от отца, к слухам об османе прислушивалась и теперь пыталась догадаться, откуда Лисица его знает. После того, как тарелки опустели, хозяин серьезно поблагодарил Господа еще раз за дневную пищу и ушел наверх, чтобы написать перед сном нужные письма, пригрозив, что завтра ему нужно будет поговорить с Иоганном о важных вещах. При слове «завтра» Анна-Мария вздрогнула, точно одержимая дурными предчувствиями, и быстро принялась собирать грязную посуду, чтобы замочить ее на ночь.
Диджле постелили на кухне, но осман обрадовался и этим растопил сердце суровой хозяйки. На ломаном немецком он сказал, что привык спать на полу, и европейская кровать для него – мука. Анна-Мария так внимательно его слушала, что он невольно разговорился и, кажется, вызвал у девицы сочувствие злоключениями, выпавшими на его долю. Их разговор Лисица слушать не стал – перед сном ему надо было еще принести воды на утро и проверить: все ли в лавке убрано и заперто. В полутьме лавки ему нравилось: иной раз пискнет и зашуршит мышь, из темноты к ногам прыгнет кот-крысолов, от образцов тканей, тщательно вклеенных в книгу, приятно пахнет новизной и одновременно слежавшейся бумагой. От фонаря на пол падали причудливые тени, и именно здесь, ночью, в чулане среди безмолвных тканей, они часто любили друг друга с дочерью хозяина.
Анна-Мария вышла из задней двери бесшумно, и Лисица сразу почувствовал ее напряжение, будто она умела читать чужие мысли, и теперь они жгли ее изнутри. Она глядела на него исподлобья, как ребенок, который со страхом ждет плохих новостей, но доверчиво позволила себя обнять и прижалась к Лисице в ответ.
- Ты опять занимаешься чем-то тайным, - первыми ее словами оказался упрек. – Даже отец уже заметил.
- Странно, что он не заметил ничего другого.
Девица покраснела и смутилась.
- Я и не думала, что буду одной из библейских распутниц, - голос у нее чуть-чуть дрожал, как тонкая перекладина над ручьем, и Лисица слышал, что говорить ей было нелегко. – Я думала, сохраню себя до свадьбы, чтобы не следовать французским обычаям.
- Ты отнюдь не распутница.
- Откуда ты взял османа? – неожиданно спросила она. – Сначала возвращаешься грязный с саблей, теперь босой с настоящим османом… Это ведь тот самый, который спасся от разбойников?
Лисица пожал плечами, что могло означать и да, и нет одновременно. Сейчас надо было сказать ей прямо, что он собирается уйти на рассвете, чтобы вернуться когда-нибудь, но Анна-Мария сегодня была так тиха, так кротка и беспокойна, что язык не поворачивался расстроить ее. Но и трусливо убегать под покровом ночи Лисица не мог. Не было сил.
Анна-Мария молча глядела на него. Если бы она плакала или кричала, гораздо легче было бы наплести ей с три короба, но взгляд у нее больше, чем прежде, напоминал взгляд олененка, приученного есть с человеческих рук. Она перебирала складки на рукаве его рубахи, осторожно, медленно, будто боялась порвать. Из-под чепца выбилась непослушная прядь, которая никак не желала ложиться в девичью косу, и Лисицу кольнула домашность и привычность облика возлюбленной, с которой придется расставаться надолго.
- Мне нужно будет завтра уйти, - наконец сказал Лисица. Анна-Мария не изменилась в лице, только чуть ссутулилась, будто ей на спину взвалили тяжелый камень, да взгляд стал ускользающим, рассеянным.
- Уйти? – переспросила она после долгого молчания. – За тобой охотятся?
- Нет.
Она закусила губу и опустила голову, но теребить ткань рубахи не перестала.
- Это ненадолго, - добавил Лисица. – Месяц, два. Может, три. Мне нужно уладить кое-какие дела, прежде чем я смогу вернуться.
- Ты придумал это нарочно, - Анна-Мария не спрашивала, утверждала. – Чтобы я не волновалась. Я просто тебе надоела.
Она с вызовом вскинула голову. В ее глазах стоял страх, перемешанный с обидой и неверием, и Лисица покачал головой.
- Какая ты все-таки глупенькая, - ласково сказал он, но Анна-Мария нахмурилась. – Ты самая замечательная девушка, которую я видел: умная, красивая, хозяйственная. Я вернусь, обещаю тебе.
Лисица отстранился от нее, снял с себя отцовский крест и вложил его в девичью ладонь.
- Чтобы ты поверила, - пояснил он, не отнимая руки. – Это моя единственная память о доме. Он охранял меня в самые темные дни. Теперь он твой, пока я не вернусь.
Анна-Мария в замешательстве взглянула на серебряный крестик; подобного жеста она не ожидала, и покраснела еще гуще.
- Извини, - почти беззвучно прошелестела она, и на ладонь Лисице капнула горячая слеза.
- Не надо плакать, - он вытер ей веки пальцами, но по ее лицу потек настоящий ручей, и сколько Лисица ни шептал ей ласковых слов, сколько ни обнимал, успокоилась Анна-Мария не сразу. Она больше