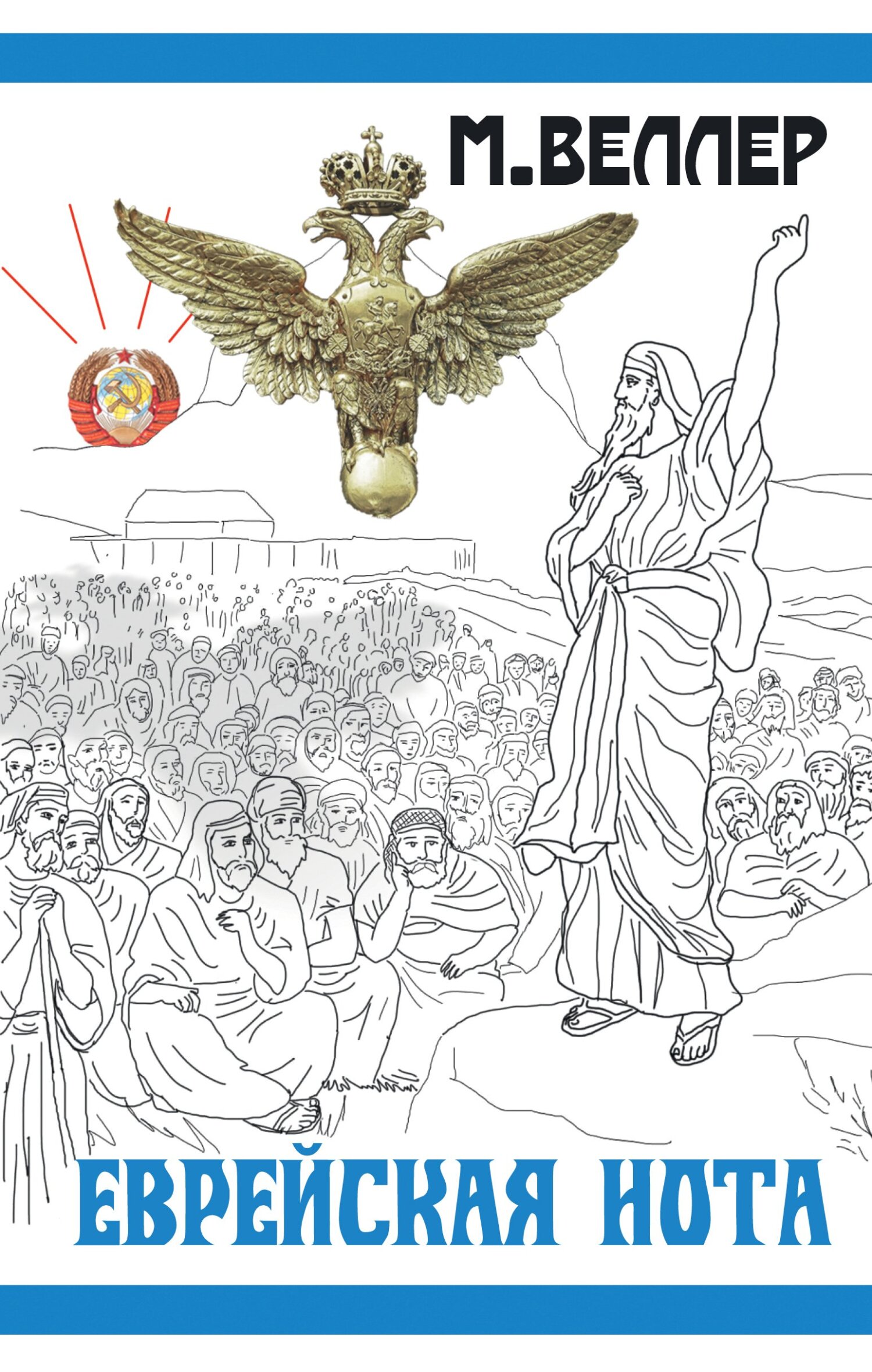тогда, в первый раз?
– Упаси Господь! ʼАбу Фархат никогда не предавал данного им слова! Как только я увидел этот горшок, то послал сына за Вами, чтобы Вы видели все своими глазами, сами распоряжались своим имуществом. Я не поехал к Вам, чтобы с горшком, не дай Бог, не произошло ничего плохого… Вы прикажете его достать?
– Да-да. Конечно же, да.
ʼАбу Фархат быстро поднял горшок и поставил прямо предо мной. Глиняное горлышко было закрыто куском кожи и перетянуто толстыми конопляными шнурками. Помолившись, садовник вскрыл эту печать и на несколько минут застыл на месте, открыв рот и потеряв дар речи. Удивление его было вполне объяснимо: в горшке в лучах дневного солнца переливалась гора золотых динариев, около ста лет пролежавших в сырой земле (как впоследствии выяснилось, монеты были отчеканены во времена Османской Порты, в XIX веке).
Я хотел помочь садовнику победить охватившую его временную немоту и слепоту, пытался сказать что-то воодушевляющее, но сам, заикаясь, лишь выдал:
– Поздравляю, ʼАбу Фархат!
Даже мне тогда это поздравление показалось слишком холодным и неуверенным, недостойным трудолюбия и честности моего дорогого слуги, и все же оно шло из самых глубин сердца, а потому я повторил его еще раз, уже с большей теплотой и большим трепетом:
– Тысячи, тысячи поздравлений, ʼАбу Фархат!
Садовник, наконец, очнулся. Переведя ошалелый взгляд с горшка на меня, он не менее – а то и более – горячо воскликнул:
– Нет, дорогой доктор, нет! Это Вас нужно поздравлять! Тысяча самых искренних поздравлений! Эта земля – Ваша земля, а значит, этот клад – Ваш клад. Я – всего лишь сторож и садовник. Это все Ваше, а не мое.
– Напротив, это все – твое, а не мое! – возразил я. – Если бы не твои чистые руки и помыслы, никто не узнал бы об этом горшке. Клад – твой. Те, кто закопал его здесь, сохранили его для тебя. Поблагодари Бога, ʼАбу Фархат, за то, что Он заставляет одних людей помогать другим! Люди, спрятавшие этот клад, даже не думали, что какой-то незнакомый им ʼАбу Фархат найдет их сокровище сто лет спустя… Удивительные, но благословенные вещи происходят с нами на этом свете!
Я долго спорил с этим честным и бескорыстным человеком, пытаясь убедить, что он больше меня достоин этого клада, но так и не смог объяснить ему той простой истины, по которой не могу принять этот треклятый горшок. Ведь иначе я еще глубже увязну в земной трясине, с которой прощаюсь сегодня, в свой Последний день.
«Где сокровище ваше – там будет и сердце ваше».
Правдивые слова. Красивые слова. Мне нужно сокровище, что, уходя, не прихватит с собой моего тщедушного сердца.
Час шестнадцатый
ʼАбу Фархат снова запечатал горшок и вернул его в родной грот, а после молча, словно египетский сфинкс, и аккуратно сложил пресловутую горку мелких булыжников, скрывшую тайник от пытливых глаз. Казалось, никто и не трогал эти старые камни, неизвестно как оказавшиеся на моем участке.
– Что скажешь, ʼАбу Фархат, если мы немного отдохнем под орехом? Здесь я чувствую себя свободным человеком, тем более, сегодня, в такой жаркий денек.
Садовник вздрогнул, словно очнулся от недолгого сна, зевнул, пригладил идеально расчесанные усы, протер глаза и бессвязно ответил:
– Под орехом?.. Ах, да. Под орехом. Как скажете, доктор… Под орехом. ʼУмм Фархат! ʼУмм Фархат! Тащи ковер и подушки для доктора!
– И чашечку кофе.
– Конечно, конечно… И чашечку кофе! Нет, лучше две!
Я сел на вынесенный женой садовника ковер и оперся локтем на подушку. Напротив меня сел ʼАбу Фархат и, обняв колени, принялся легко и медленно раскачивать свое могучее тело взад-вперед.
Предвечерний прохладный ветерок вовсю гудел в ветвях старого орехового дерева. Как только он осторожно коснулся и моего грязного, вспотевшего лица, в мой несчастный мозг впилось странное желание снять с себя одежду и броситься, словно уставший бык или загнанная лошадь, на влажную землю сада. Я представил себе, как дыхание земли медленно вливается в мою остывшую кровь, как солнечные блики весело скатываются по моей почерневшей коже, как тени лепестков векового ореха водят хороводы на моем лице… По телу прошла сладкая дрожь, дрожь освобождения – пускай и воображаемого – от покровов, так подло скрывающих от нас все живое. То была дрожь гностика, что, восстав против миропорядка, наконец-то разорвал все его границы и меры и окончательно слился с его вечностью, с его бесконечностью.
До сегодняшнего дня я жил и не давал себе отчета о тех вещах, что отравляют мою жизнь, сужают ее до простора игольного ушка, сейчас же мне кажется, будто этих вещей слишком, слишком много. Я нахожусь в своеобразном «центре», вокруг которого возведены десятки тысяч границ и преград, и сам неустанно встаю на их защиту, считаю их своей цитаделью, что оградит меня от обыденностей времени и пространства. «Если падут эти стены, паду и я; с ними я исчезаю и с ними существую», – думал я, не замечая, как каждый новый миг времени и места разъедает эти самые стены, сдвигая их и милостиво обновляя.
Я лежу здесь, под орехом, под зорким оком вечной природы и наконец-то могу спросить ореховое дерево:
– Знаешь ли ты мужчину, который сейчас разлегся в твоей пышной тени? Он твой хозяин, он хозяин земли, давшей тебе жизнь. В его руках власть карать тебя и миловать, продлевать твою жизнь или обрывать ее одним взмахом топора.
Дерево молчит, втайне посмеиваясь надо мною. Тогда я спрашиваю землю:
– Слышала ли ты, земля, о докторе Мусе ал-ʻАскари – заведующем философской кафедрой самого известного университета страны?
Земля тоже смеется надо мной, не проронив ни слова. Приходится мне обратиться к ветру:
– Знаешь ли ты что-либо о семье доктора Мусы ал-ʻАскари? О его жене Руʼйа и сыне Хишаме?
Ветер равнодушно перебирает листки дерева, так и не удостаивая меня ответа.
– А ты, солнце, знаешь ли ты, что доктор Муса ал-ʻАскари прощается ныне со своим Последним днем?
Солнце не останавливается, не меркнет и по-прежнему молчит.
– Хочу задать тебе вопрос, о господин муравей, так усердно волочащий за собой огромное зерно спельты! Знаешь ли ты о том, что доктор Муса ал-ʻАскари недавно отказался от целого состояния, спрятанного в глиняном горшке? Ты же мертвой хваткой вцепился в зерно, откопанное в ослином дерьме, и готов сложить свою маленькую голову за это ничтожество?
Муравей не впечатлен ни моей вдохновенной тирадой, ни моим великодушием, он и дальше продолжает молча тащить свое заготовленное на зиму сокровище.