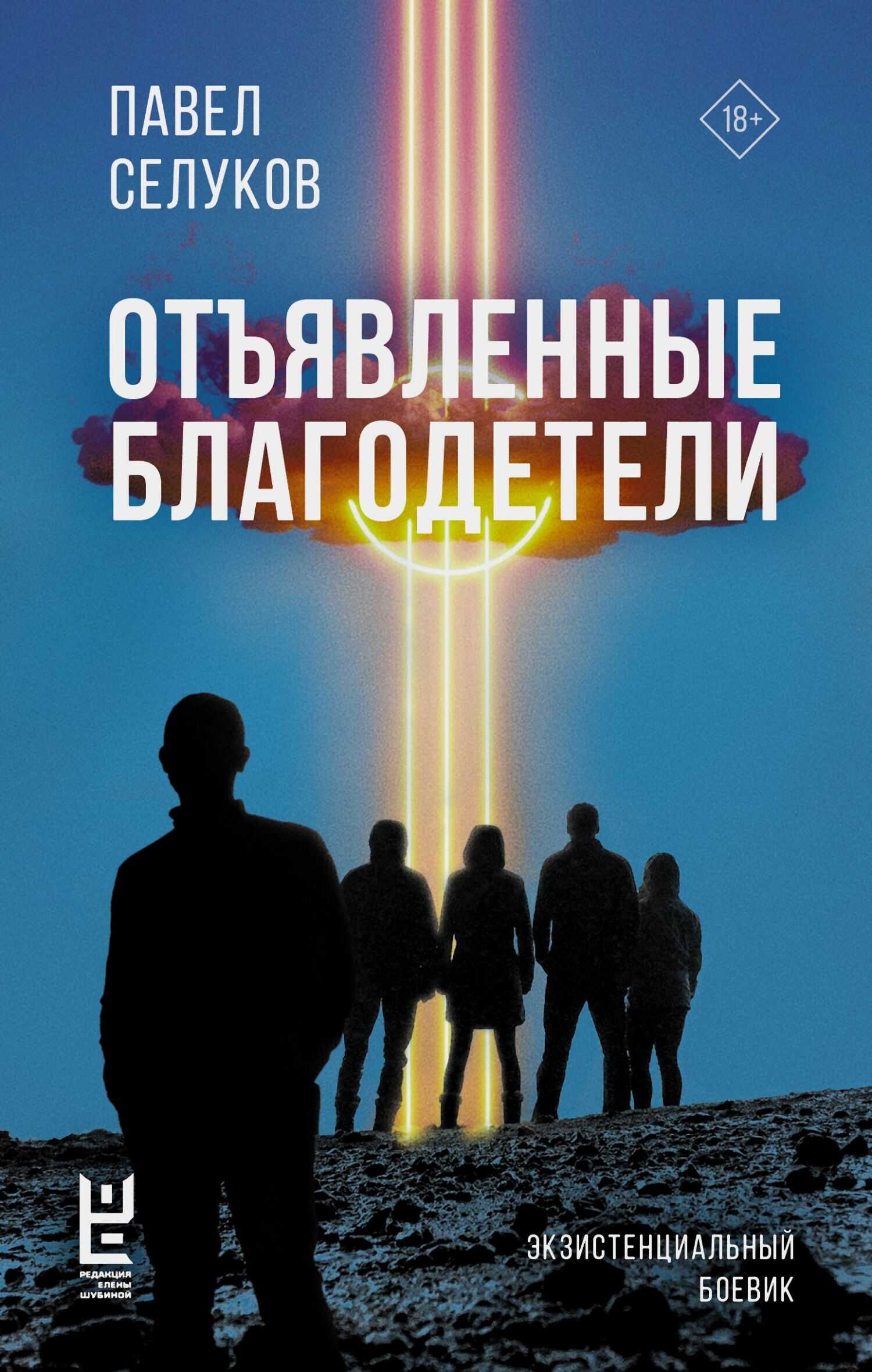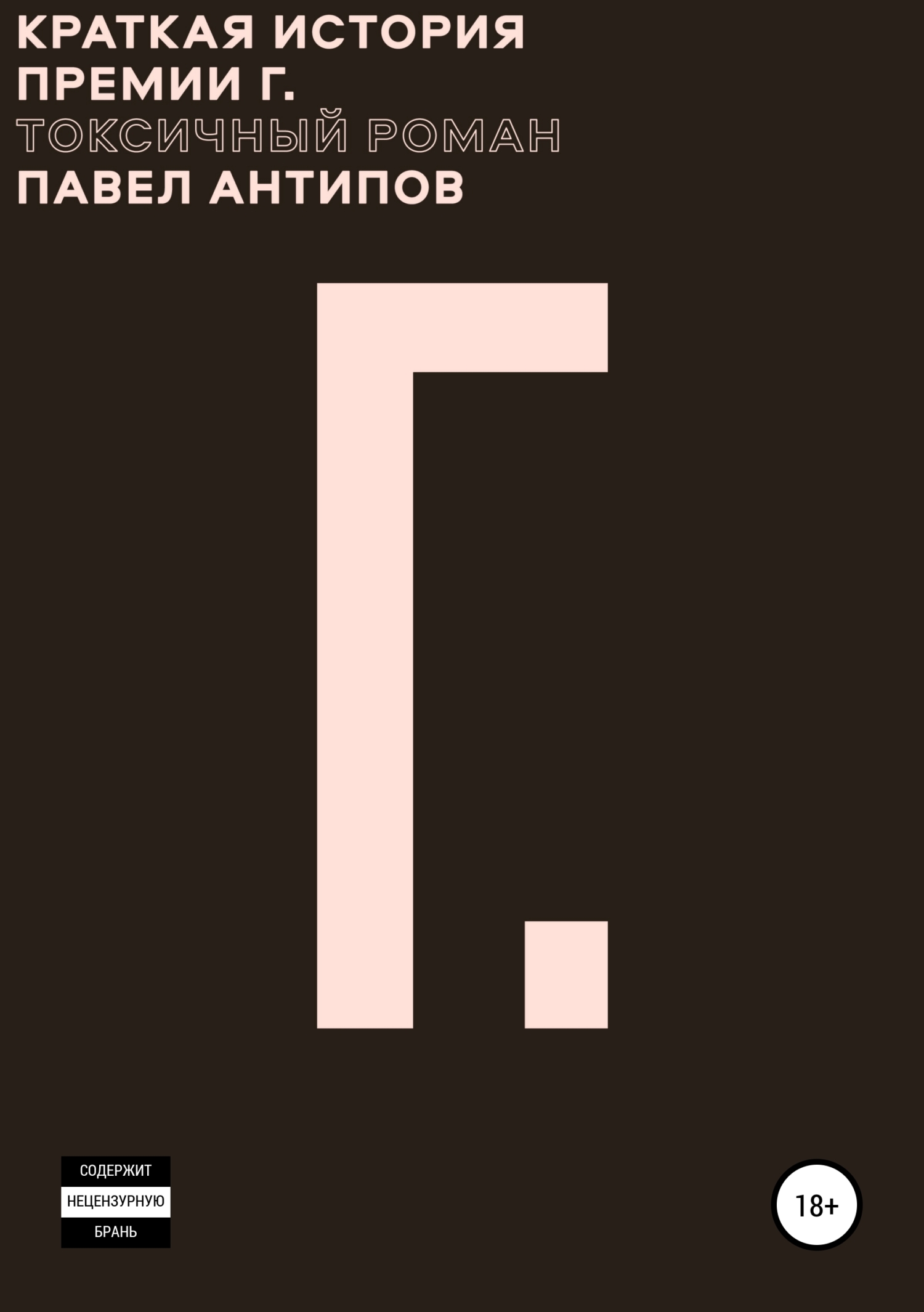творческой жизни привыкала он вспоминал. в какой-то момент серьёзно пить это быстро превратилось в зависимость
Он умер в 1981 году.
Ни одно моё письмо не нашло моего сына.
5.
Первый день войны застал семью Синцовых враспиздень, как и миллионы других семей. Казалось бы, все давно вчёсы- вали за войну; и всё-таки в последнюю, бесконечную от дикого торча минуту она обрушилась на голову, как бур из третьей «Матрицы»; очевидно, вполне уторчать себя заранее к такому огромному палеву вообще нереально.
О том, что началась война, Синцов и Маша узнали в Симферополе, докуривая жаркие пяточки. Они только что на измене сошли с поезда и стояли возле старого открытого «Линкольна», ожидая пока немного попустит, чтобы доехать до точки в Гурзуфе.
Оборвав их вчёс с шофёром о том, есть ли на рынке ЛСД и грибы, радио хрипло на всю площадь сказало, что началась война, и жизнь сразу разделилась на две несоединимые части: на ту, что была пару тяжек назад, до войны, и на ту, что была теперь.
Синцов и Маша донесли чемоданы с планом до ближайшей скамейки. Маша села, уронив голову на руки, и, не шевелясь, сидела как уторчанная, а Синцов, даже не спрашивая её ни о чём, поплёлся к военному коменданту брать места на первый же отходящий поезд. Теперь им предстояло сделать весь обратный путь из Симферополя в Гродно, где Синцов уже полтора года служил драгдилером редакции армейской газеты.
К тому, что война была несчастьем вообще, в их семье прибавлялось ещё своё, особенное несчастье: политрук Синцов с женой были за тысячу вёрст от войны, здесь, в Симферополе, а их годовалая, но уже долбившая план дочь осталась там, в Гродно, рядом с войной. Она была там, они тут (или она там они здесь? Или они тут она там? Или они там она тут? Или она здесь они там?) и никакая сила не могла перенести их к ней раньше чем через четверо суток.
Стоя в очереди к военному коменданту, Синцов успешно пробовал представить себе, что сейчас творится в Гродно. «Слишком близко, слишком близко, к границе, к границе, и самое главное, самое главное, авиация — авиация — авиация! Трррр-ра-та-та-та-та-та-та-та-та! Бум! Бум! Бах! Трах! Бабах! Виа-виа-виа-виа-тррах! Бабах! Бух! Пух!.. Правда, из таких мест торчков сразу же могут эвакуировать в Чуйскую долину.» — мысль об эвакуации торчков в Чуйскую долину понравилась ему; казалось, что она может успокоить Машу.
Он вернулся к Маше, чтобы сказать, что всё в порядке, в полночь они поедут обратно. Она подняла голову и посмотрела на него как на глюк.
Что в порядке?
Если вырос план на грядке, с огородом всё в порядке, если вырос алый мак, с огородом всё ништяк, сказал Синцов и, глупо хихикая, неприлично рассмеялся.
Хорошо, — тупо сказала Маша и опять опустила голову на исколотые наркоманские руки.
Она не могла простить себе, что уехала от дочери. Она сделала это после долгих уговоров матери, специально приехавшей к ним в Гродно, чтобы покурить синцовского плана. Синцов тоже уговаривал Машу бросить глухо торчать и поехать в санаторий; он даже обиделся, когда она в день отъезда подняла на него глаза, похожие на помидоры, и спросила: «А может, всё-таки не поедем?» и тупо заржала. Не послушайся она их обоих тогда, сейчас она курила бы не беспон- товую симферопольскую шалу, а тот мягкий чёрный гаш, который долбили в Гродно. Мысль быть там сейчас не пугала её; палевом было то, что её там (или тут? Или здесь?) нет.
В ней жило такое чувство вины перед оставленным в Гродно ребёнком, что она почти не думала о плане.
Со свойственной ей прямотой она сама вдруг сказала ему об этом.
А что о плане думать? — сказал, забивая очередной косяк, Синцов. — И вообще, великий Гоголь есть выходник препровождающий.
Маша терпеть не могла, когда он говорил так: вдруг ни к селу ни к городу начинал бессмысленно вчёсывать о Гоголе, о котором и сказать-то ничего нельзя.
Хватит гнать! — сказала она. — Ну какой на фиг выходник препровождающий? Ч т о ты знаешь о Гоголе?! — Косяк в её губах задрожал от злости (и непонятно было кто больше злился: она или косяк?). — Я не имела права уехать! Понимаешь: не имела права! — повторила она, крепко сжатой в кулаке зажигалкой больно ударяя себя по коленке.
Синцов глубоко, с тяжёлым наслаждением, затянулся, долго задержал дыхание и осторожно, то ускоряя, то замедляя выдох, выпустил дым через нос. Его лицо и взгляд на глазах Маши изменилось за эти пятнадцать секунд до неузнаваемости, безумно, страшно изменилось. Вместо военного журна- листа-драгдилера на неё смотрело ужасное бесовское животное, похотливый скот. Синцов заржал. В его убитых глазах её любящий взгляд мог, бывало, прочесть затаённую боль и страдание, но сегодня ей как-то не читалось. Мышцы лица его обвисли. Маша отвернулась.
«На хер войну», — подумал Синцов, слечивая косяк, «на хер этого Сталина ебучего, и всю эту Советскую Родину. Не пойду воевать ни хера, сцуко! Не пойду на фронт, буду всю войну план долбить! Проторчу войну на хер, и плевать, кто победит! Какая разница? Лишь бы конопля росла!» — думал Синцов. Маша посмотрела на косяк в руке Синцова. Ей тоже хотелось дунуть синцовского гаша, но она знала, что тогда её опять заглючит, как в прошлый раз, когда она постриглась налысо, или в позапрошлый, когда голая ползала на четвереньках и ругала Советскую власть. Синцов закашлялся. Его дико пёрло, ему казалось, что поезд взлетает; что война это следствие того что Сталин с Гитлером обкурились и погнали, и Черчилль со своим коньяком тут не поможет. Маша закрыла глаза.
Когда они сели в поезд, она жёстко воткнула и на все вопросы Синцова отвечала только «да» или «нет». Вообще всю дорогу, пока они ехали до Москвы, Машу пёрло как-то механически: она курила план, молча втыкала в окно, потом валилась на свою нижнюю полку и часами хихикала, отвернувшись к стене. Вокруг вчёсывали только об одном — о войне, а Машу так вшторило, что она не слышала этого; в ней совершалась большая и тяжёлая внутренняя работа, к которой она не могла допустить никого, даже Синцова.
Уже под Москвой, в Серпухове, едва поезд остановился, она впервые за всё время сказала Синцову:
Пойдём, дунем.
Вышли из вагона, взяла его под руку.
Маршал Советского Союза И.С. Конев «MY FIGHT WITH DRUGS. THE