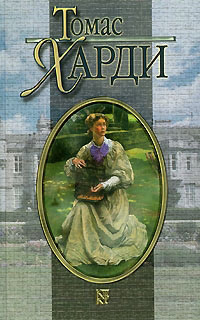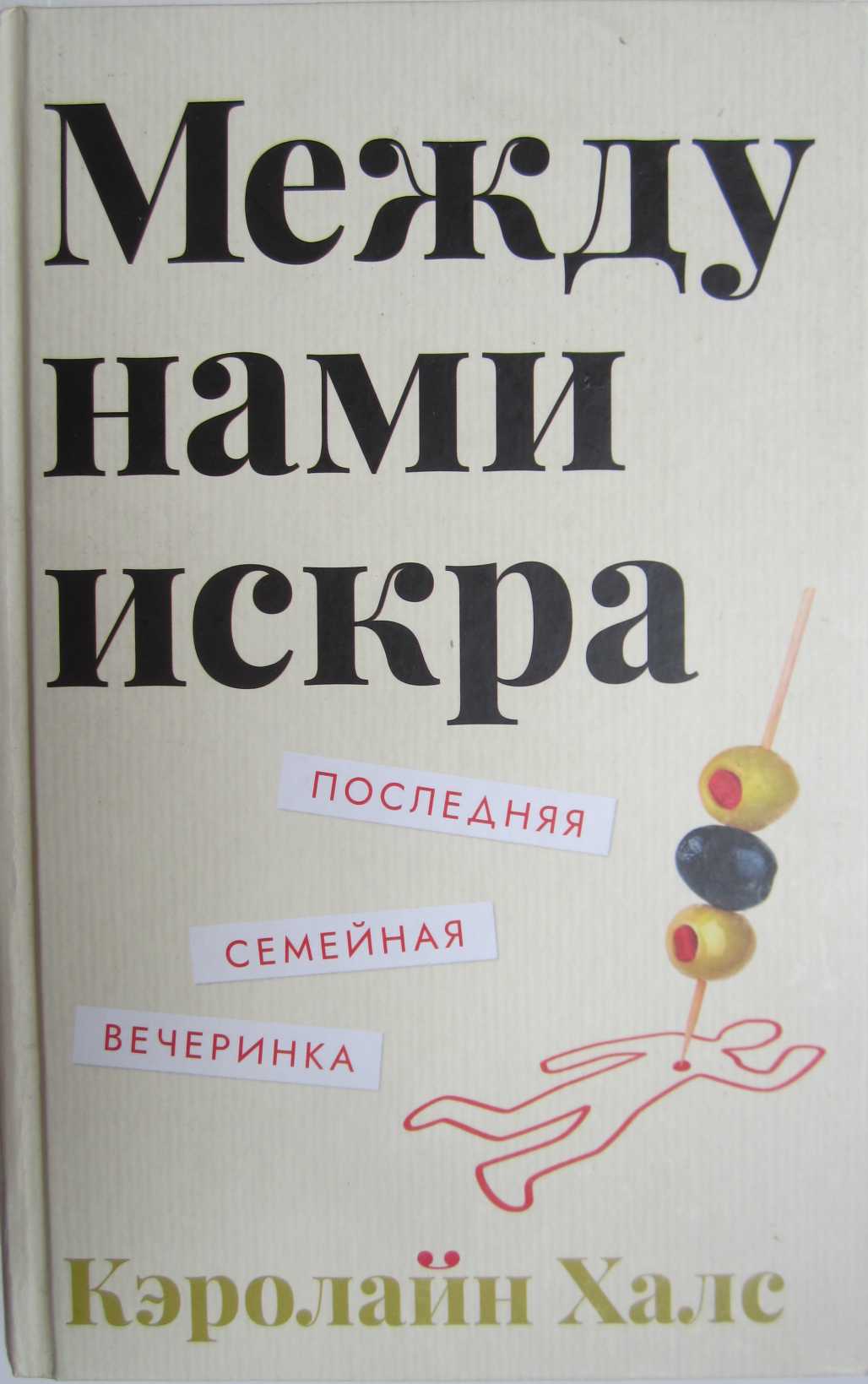и вырвалась на улицу. Так бывает, когда личная беда не должна стать известной никому, потому что боль нужно пережить, а не растратить.
Повсюду стоял пресный запах тоски. Настолько откровенно пахло, что даже свет не проникал, уверенно крепла темнота, разбавленная слабым мерцанием дневной лампы.
Старик что-то записывал в тетрадь, кряхтя, довольно поглаживая глубокую залысину. Он собирался жить до тех пор, пока не умрет последний человек, которым, наверное, окажется сам.
Наконец старик вспомнил, что пока еще не один, встряхнул рукой – ну, как же я забыл, – отложил в сторону писанину, зарыскал в поиске портсигара.
– Да, вы же хотели что-то сказать. Пожалуйста, говорите. Я выслушаю вас и сделаю все, что пожелаете.
Он чиркнул непривычно длинной спичкой. Ожившее пламя воскресило сигарету.
Говорил он возвышенно, потому некрасиво, словно каждое слово давно выпустило жизнь и осталось просто словом, не способным на предписанный подвиг. Говорить не хотелось – все равно бы любая фраза оказалась лишней.
– Я просто так заглянул. Посмотреть, прицениться.
– У вас горе?
– Да… наверное, горе.
– Все что пожелаете. Все что угодно, – лепетал старик.
А что мне было нужно, что вообще мог сделать старик, для которого чужое горе – самое главное счастье. И тогда я сказал:
– Давайте жить вечно.
Прозревающий дождь шептал по дороге – все хорошо, все хорошо. Шептал неуверенно, и хотелось, чтобы в небе громыхнула правда. Я не верил, что Кати больше нет.
На родной ментовской земле подозрительно тихо.
– Начальника не видел?
Нужно забрать личные вещи, постирать форму. Прошу Гнусова забронировать билет до Петербурга, пока ношусь с рапортом.
– Все-таки поедешь?
– Поеду, а ты как думал?
– Я бы не поехал. И тебе не советую.
– Она мать Гриши, если ты забыл. Она моя жена, в конце концов. У нее даже родственников нет.
Гнусов нехотя водит курсором по экрану. Его душит затяжное похмелье. Небритый, с мятым воротником, согнутым погоном, что он может понимать.
– Как дела у тебя?
– Лучше всех, – огрызается Леха, – материалов накидали. Ты еще в отпуск собрался.
– Всего неделя, Гнусов. Не ной. Лучше займись детьми. Новостей нет?
– Не знаю, не узнавал. Мне все равно. Тебе, кстати, одна из матерей звонила. Говорит, что обещал связаться, а сам забыл. Это по вчерашней потеряшке.
– Да, точно. Забыл.
– Вот-вот. А то я-я, крутой оперативник, все дела. А кому теперь разгребать за тобой? Конечно, только Гнусову.
– Слушай, где мой ноут?
– Ноут? А, начальник забрал.
– Зачем?
– Спроси у него. Разве с ним поспоришь.
– А ты будто спорил.
– Не спорил, – признается Гнусов, продавливая кнопки.
Я думал, как-то иначе поговорю с ним. Пожму руку, скажу – ладно, Гнусов, забыли.
– Билет на второе число. Можешь ехать. Мне пора.
Он рывком хватает папку, накидывает кобуру и мчится спасать мир.
В курилке никого. Один щенок, прижавшись к стальной решетке, ежится и жмется, похрипывая от тоски. Мелкий, но мордастый.
«Ты откуда?» – говорю, словно понимает. Щенок обнюхивает ботинки, слизывая с носов гуталиновый налет. Пинаю осторожно по морде. Урчит и продолжает ласкаться с обувью.
Присел. И вот показал шершавый язык. Маленький, короткошерстный, виляет хвостом, к руке ластится. Хлопнет глазами, шелохнется. Прижался к ноге, отпускать не хочет. Беру – крохотного и беззащитного. Обратно ставлю, приметив следака.
– Чего это ты? – спрашивает следак.
– Да вот, – показываю, – пристал.
– И ец бы с ним. Слышал, в отпуск уходишь? Счастливый.
– Да уж, счастливый.
– Поедешь куда?
– Посмотрим.
– Поживем – увидим, ага.
– Выживем – забудем.
Щенок послушно сидит у ног, наблюдает за разговором. Вывалив тонкий перламутровый язык, довольно слушает, как следак жалуется на количество возбужденных дел. Прокуратура прохода не дает. Со всех сторон прижали.
Я киваю – да, разумеется, и щенок тоже дергает головой.
– А тут еще серия потеряшек. Гнусов твой работать не хочет. Поручение дашь – он порвет и забудет. Нас каждый день на коллегии поднимают за этих детей. Что сам думаешь?
– Работать надо, пока не поздно.
– А я про что. Ты Гнусову скажи. Ваш сектор, а ты вроде старший.
– Скажу, – и понимаю сам, сколько ни говори, ничего не изменится.
Может, впрямь остаться. Целый год Катя жила без меня. Наверняка не одна жила, кто-то ее опознал. Вот и пусть занимаются похоронами.
Щенок беззаботно кружит. Вглядывается так преданно, как, бывает, смотрит Гриша в надежде, что действительно его не брошу.
Угрюмые полицейские бобики таращатся пуговичными фарами, поперек двора покоится раздолбанная служебная десятка, напоминая, как совсем недавно мы задерживали на ней залетчиков из столицы. В плесневелом фасаде старенького здания с имперской важностью светится окно.
В ваших руках наша победа. Работайте, братья.
Щенок бежит за мной, шлепая где придется. Вдоль по лужам, сквозь бордюр. И, кажется, мы обречены. Пошли, раз такое дело. Гриша будет счастлив.
Много позже бедная собака, не обнаружив щенка, долго будет скулить за воротами, но этот материнский плач никто не услышит.
Щенок вразвалочку шатается по квартире, обнюхивает углы. Я зову его Диком, а иногда, свернув губенки, причмокиваю, и щенок тут же прибегает. Вьется спиралью хвост, дышит жилистое тело.
Надо купить поводок. А намордник тебе нужен, интересно, спрашиваю щенка, и тот мчится к двери. Я наблюдаю, как, упершись лапами в кожаную обивку, выпускает когти и, зевнув, начинает скулить.
– Подожди, скоро приведу Гришу, будете с ним куролесить.
Щенок пищит. Разбежится, ударится в косяк. Покружит у порога, прыгнет и зацепит ручку так, что дверь почти откроется.
– Хочешь гулять?
Задышит в надежде и снова заскулит, услышав внеочередное «подожди».
По кабельному крутят передачу про будущих марсиан. Там целая команда молодых людей готовится к эмиграции на красную планету. Какой-то черный, больше индус, нежели американец, клянется, что готов умереть, лишь бы шагнуть на поверхность Марса, почувствовать морщинистые впадины, кратерную тягу. Его перебивает девочка-славянка – говорю прямо, заявляет, я готова к внеземному продолжению рода. Индус протягивает многозначительное «йе-еее…», а сидящий напротив азиат теребит карманы, предвкушая вкус космической близости.
Когда полет состоится, девочка-славянка станет женщиной с типичным потомством, погаснет звезда во лбу у женушки индуса и, может, успеет заделать второго ребенка китаец. Говорят, теперь разрешено рожать двоих. Демография.
– Хочешь на Марс? – спрашиваю щенка.
Тот дергает мордой. Ну, давай, покажи язык, засранец.
И продолжает скулить.
Обошел прихожую и зал, в спальню зашел и кухню. Где-то у гарнитура, меж батарейной рамой и хрущевской морозилкой примостился, поднял заднюю лапу и выдал огромную лужу. Побежала вдоль стены, сползла по ламинату, замерла угловатой струйкой у порога.
Щенок пялится, как я мчусь из ванной с половой тряпкой. Гонит к двери, сгорбившись, изогнув