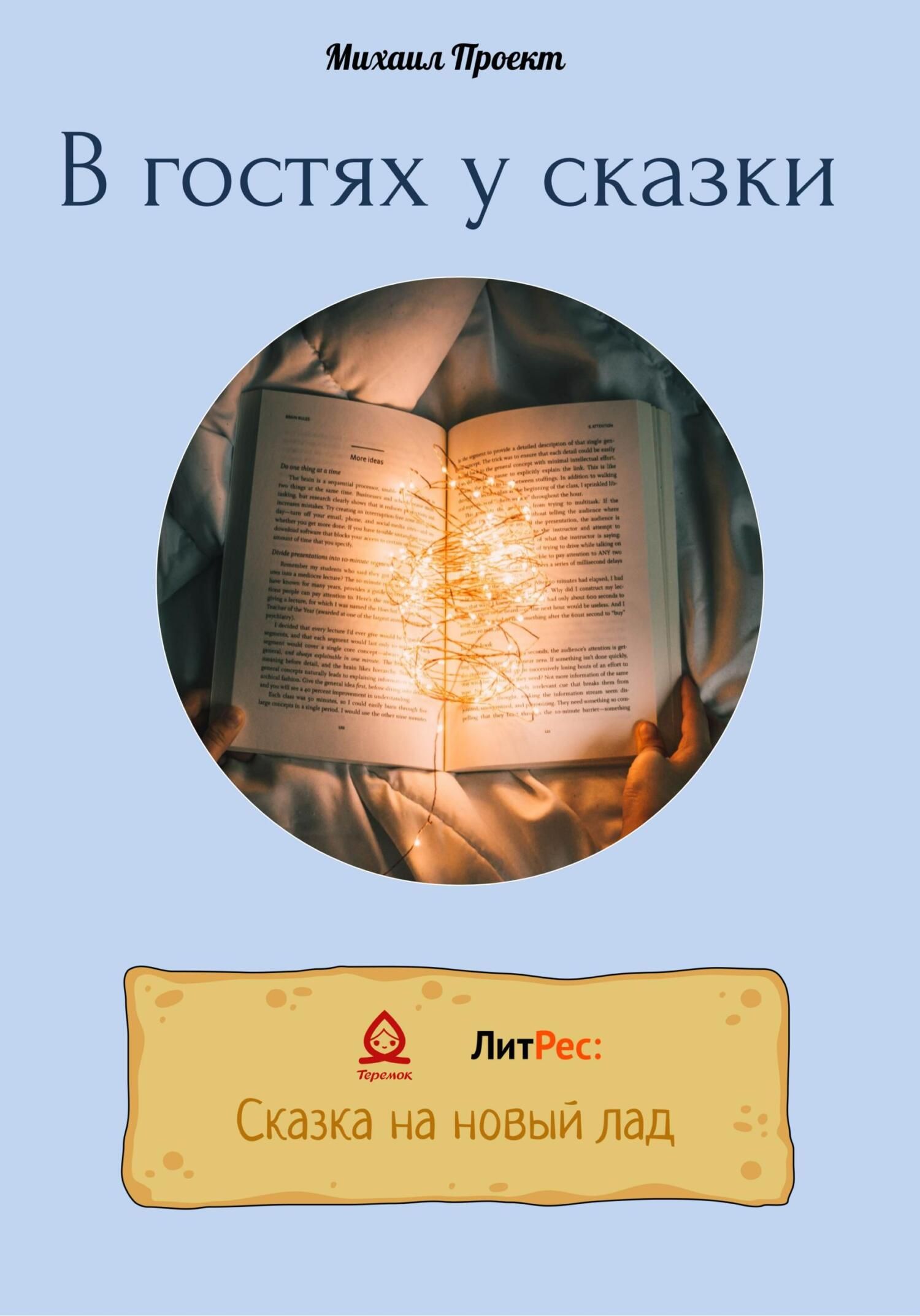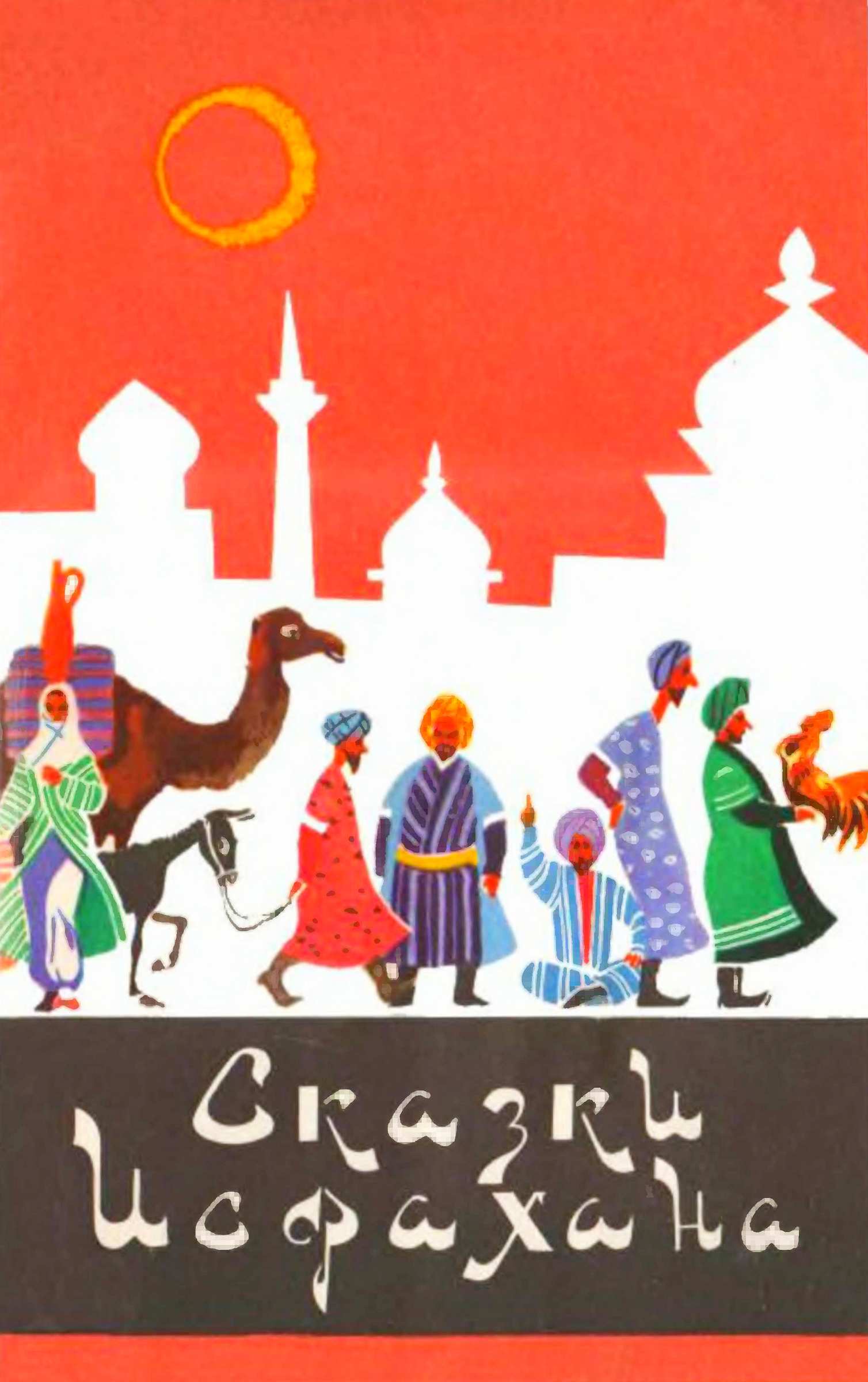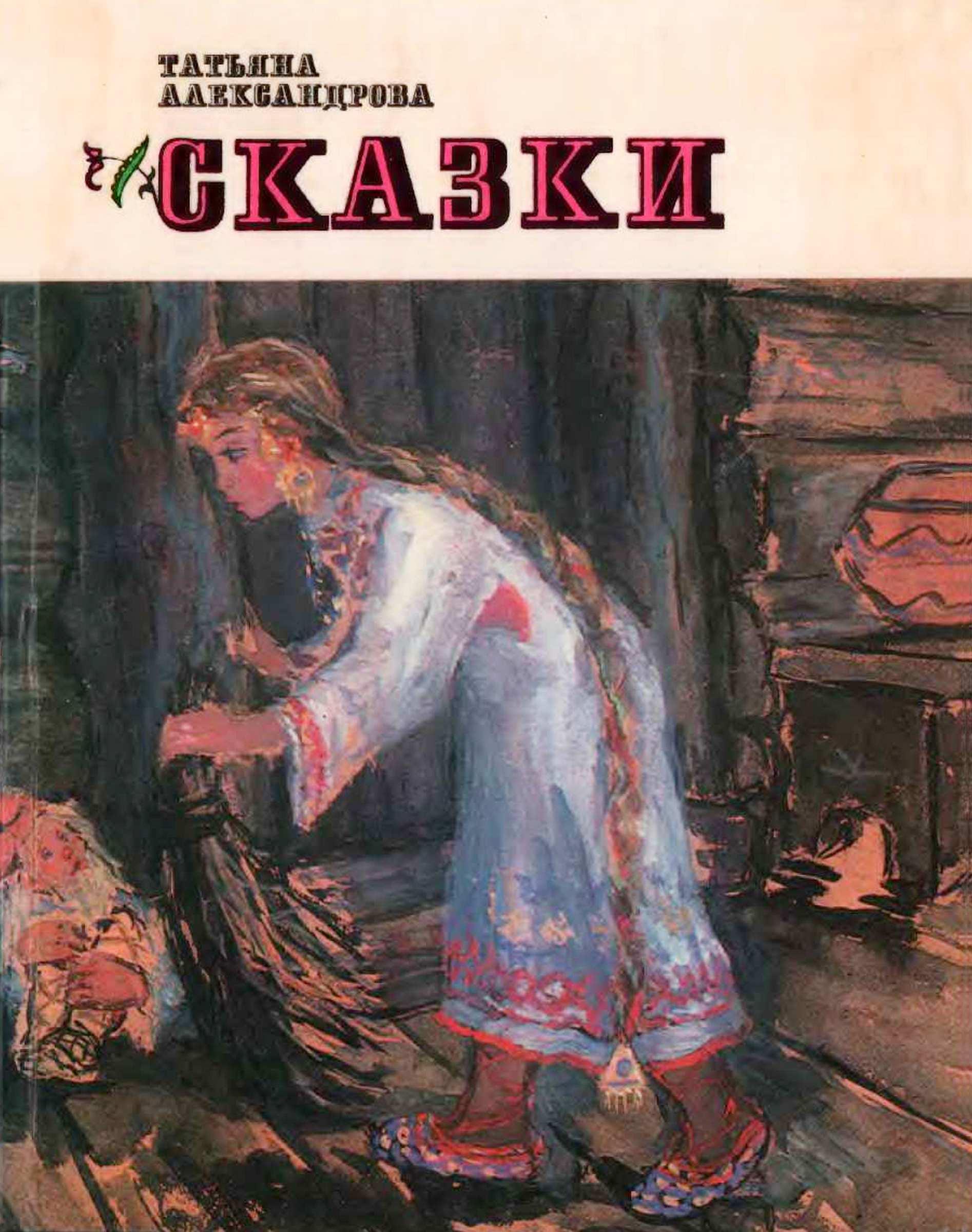ни дня. Варвара Александровна очень дружила с моей мамой, Марией Федоровной Некрасовой — тоже ученицей Вахтангова, игравшей в первых его постановках. Они составляли очень смешную „классическую“ пару — „толстый и тонкий“. Мама была полная, яркая, характерная, а Варвара — маленькая, худая и шустрая. Смотреть на них со стороны было очень забавно.
Варвара Александровна обожала хулиганить. Я помню ее под кроватью (а вот зачем она туда забиралась?..), помню, как она дразнила кошек, доводя их до бешенства, хотя очень их любила.
Она постоянно играла в жизни, с удовольствием входила в какой-нибудь образ. Когда в четыре года я страшно заболела, Варвара приняла в моем лечении самое деятельное участие. Я категорически отказывалась есть, и она разыгрывала передо мной целые сцены: подвигала к себе тарелку и начинала с невероятным аппетитом поедать, допустим, кашу. Так как меня воспитывали „правильно“, я тут же кричала: „Отдай, это мое!“ — и начинала быстро-быстро опустошать посуду. Такая же ситуация была и с санитарными процедурами. Чтобы поставить мне клизму, Варвара самоотверженно ложилась рядом…
В нашем доме все постоянно друг друга разыгрывали, шутили, устраивали целые представления, и Попова всегда принимала в них участие».
* * *
Варвара Попова родилась в Самаре, в благополучной, обеспеченной семье, воспитывалась в институте благородных девиц, затем — в Московском Александровском институте. В совершенстве знала два языка, французский и немецкий. В восемнадцать лет она круто изменила свою жизнь, подавшись в артистки. По всей видимости, в семье эту новость восприняли без энтузиазма, потому что в дальнейшем никто из коллег и соседей не помнил, чтобы Попова рассказывала что-нибудь о родственниках или ездила кого-нибудь навещать. Иногда, крайне редко, к ней приезжала старшая сестра — тонкая дама с аристократичной внешностью и изысканными манерами. Сестры не были похожи и не дружили. Общих тем для разговоров не было.
Не так давно в Москве вышла книга «Александра Ремизова: режиссер и ее актеры». Несколько строк там связаны с Варварой Поповой. Александра Исааковна вспоминала:
— Мы были очень увлечены, не замечали ни голода, ни усталости. Нас уже ввели в «Чудо святого Антония», и мы почувствовали себя артистами. Однажды во время действия я чуть не упала на сцене от голода. После спектакля кто-то рассказал, что на Воробьевых горах есть такая больница милосердия, где всех голодающих и истощенных кормят и дают ночлег. Мы с Варькой решили действовать.
С Варькой мы очень дружили. Когда я приехала в Москву, была смешная, очень плохо говорила. Евгений Багратионович как-то сказал мне очень по-доброму: «Сашура, вы очень плохо говорите. Вам нужно дружить с Варей Поповой и слушать ее. У нашей Вари очень правильная и красивая московская речь. Дружите с ней и учитесь у нее». Так я и стала дружить с Варькой, и дружу вот уже больше семидесяти лет.
После того спектакля, когда я чуть не грохнулась в обморок, мы с Варькой придумали план. Раз мы появлялись в спектакле только на несколько минут и были гостьями из «третьей линии», то решили, что наше отсутствие будет не очень заметно другим участникам этой сцены. Поэтому, старательно подобрав себе замену из совсем молодых учеников Студии, мы серьезно отрепетировали с ними наши роли… и отправились на Воробьевы горы. Там, действительно, нас приняли, осмотрели, поохали, покачали головой и начали кормить супом и кашей. Нам выделили место на мешках с соломой, где мы должны были лежать и «нагуливать здоровье». Там, в этом «санатории», мы с Варькой, лежа на мягких тюфяках, курили папиросы-самокрутки (тогда почти все курили; это была не мода, просто так меньше хотелось есть). Счастье нам улыбалось, и мы мечтали о будущем в театре. Так продолжалось дня три, нас начала мучить совесть — а как там наши товарищи, которые вели ничуть не более сытую жизнь, чем мы. Из «санатория» на Воробьевых горах мы убежали и с повинной головой пришли в Студию. Наше предательство было раскрыто очень скоро, и виновниц вызвали на Центральный Орган Студии. Нам устроили «аутодафе», нещадно клеймили. Старшие студийцы говорили, что за такое нарушение дисциплины, прямо-таки преступление, нас надо выгнать, но кто-то вступился за нас и сказал, что Сашура действительно чуть-чуть не упала на сцене, а «это было бы не эстетично и разрушило бы цельность композиции»! (Все должны были стоять неподвижно). Мы были пристыжены и страшно злились на эту кашу, из-за которой предали наших товарищей. Окончательное слово было за Евгением Багратионовичем. Мы готовились к самому худшему, но он, видя наши растерянные лица, прочтя на них полное раскаяние, был с нами очень добр: «Вы, я думаю, все поняли и больше этого не повторите».
* * *
О Варваре Поповой заговорили в конце 1920-х, когда она с блеском сыграла Луизу в пьесе Фридриха Шиллера «Коварство и любовь». О молодой актрисе писали многие театроведы, на нее сбегалась смотреть вся Москва. Те, кто дожил до наших дней, до сих пор говорят об этой работе с нескрываемым восторгом. «Она сыграла Луизу лучше, чем кто бы то ни было в этом театре мог бы это сделать, — можно прочесть в одной из сохранившихся рецензий. — Она трогает и волнует…» При этом многие пытались разгадать, как удача могла улыбнуться актрисе с такой, в общем-то, невыигрышной внешностью, ярко выраженной «русопятистостью». Жена Захавы, Мария Некрасова, любила поддразнить подругу. «Фердинанд! Ты зажег огонь в моем сердце!» — пародировала она Попову тоненьким, дрожащим голоском. Однако годы спустя Михаил Ульянов отметил, что Варваре Поповой позволил сыграть Луизу «пронзительный звук ее индивидуальности, человеческая теплота, угловатость и жизненная неприспособленность».
Больше Попова ничего заметного в театре не сыграла. Она не умела интриговать, бороться за себя или выгодно дружить «против» кого-нибудь. Многие называли ее неудачницей. В личном деле Варвары Александровны написано: «Находится в условиях не очень благоприятных для роста, но все же делает успехи».
Успехами актрисы Поповой стали Санька в «Интервенции», Нинка в «Аристократах», Дуняшка в «Женитьбе», Поликсена в «Правда — хорошо, а счастье лучше», Манюшка в «Зойкиной квартире», Феклуша в «Грозе», мать Любки Шевцовой в «Молодой гвардии», нянька в «Ромео и Джульетте», Валерия Ивановна в «Первых радостях». Она не играла главных ролей, но партнеры восхищались ее органичностью в любом образе, ее совершенным владением актерской техникой, правдивостью существования в предлагаемых обстоятельствах. Казалось, этой женщине самой природой предначертано жить и умереть на сцене, но Варвара Александровна категорически не желала существовать по законам театра. Она уходила домой, как только заканчивался спектакль. Она торопилась к семье, к сыну, никогда не