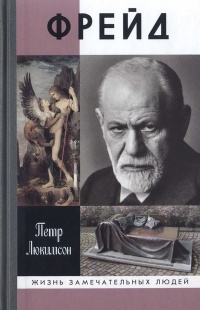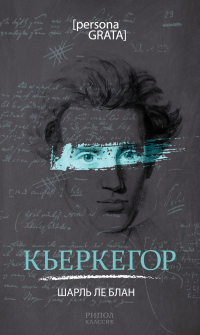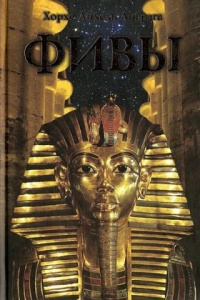Преодоление деконструкции
Многие внимательные филологи-критики, которые Деррида предшествовали и на которых он ссылается – например, Жан Старобинский, – показывают, что всю жизнь Руссо, по сути, находился в колебаниях между тем, что он сам – с до сих пор не вполне ясными целями – провозглашал в качестве идеала мудрой простоты, и тем, что в то смутное и переходное для тогдашней философской литературы время выступало в виде более узкой, но в то же время куда более насущной задачи – попадания в повестку речи, выступающей в качестве светской, и в то же время избегания ситуации, которая для этой речи была ведущей. Последняя цель требует отдельного внимания, поскольку она, по всей видимости, не просто была для Руссо ведущей и в то же время скрытой за грандиозным замахом его ранних философских теорий, но содержала в себе нечто щекотливое. С одной стороны, верно то, что ниоткуда, кроме как из тогдашнего салона, почерпнуть актуальную повестку было нельзя. В то же время то, что в салоне по ее поводу можно было найти, носило абстрактный характер – имеется в виду не столько его всеобъемлющее и безразличное свойство, сколько то, что можно было бы назвать присущим светской речи торможением, склонностью откладываться в продукт высказывания определенного типа. Через полтора столетия из печати выйдет работа Гюстава Флобера «Лексикон прописных истин», представляющая собой собрание общих мест, которые можно было встретить в светской речи его современников, – издание крайне лукавое по замыслу, потому что такие общие места всегда назначаются задним числом и становятся ими высказывания не безнадежно плоские, а, напротив, наиболее острые и привлекшие в свое время внимание в качестве парадоксальных. Светская речь в этом смысле меньше всего напоминает пресловутую беседу о погоде или общеизвестной текущей политике, но, напротив, предлагает – пусть даже во всегда уже угасшем виде – то, что, будучи развито в соответствующем замысле, могло бы создать мыслителю славу. В этом смысле невозможно ни следовать за ней буквально, ни абсолютно пренебречь ей.
Невозможность эта в творчестве Руссо особенно заметна, в связи с чем возникает необходимость предложить гипотезу, объясняющую, почему осуществить свое предприятие Руссо не удается, причем не удается вовсе не по причине наивности и в то же время идеологической нагруженности своих идей. Если бы замысел Деррида состоял всего лишь в том, чтобы на эту наивность указать, предпринятые бы им усилия навряд бы завели его достаточно далеко.
Напротив, Деррида удерживает новаторскую повестку именно потому, что он не пытается Руссо разоблачить, указав на то, что тот якобы не знает, что он говорит, или же – что ровно то же самое – знает вплоть до того предела, до которого ему выгодно оставаться в отношении сказанного бессознательным. По последнему пути как раз целиком и полностью идет другой видный, хотя и находящийся сегодня в опале представитель деконструкции, Поль де Ман. Изощренность предпринятого последним анализа текстов Руссо – в частности, «Исповеди» – простирается ровно до того момента, где эту бессознательную выгоду де Ман стремится уловить, наглядно предъявив ее читателю. Делается это примечательным и действительно достойным разбора образом: де Ман, например, демонстрирует, что Руссо удобно настаивать на исповедальности текста «Исповеди» как на образце чистосердечия, которое на деле находится в ложном (хотя и декларируемом Руссо) соположении с «истиной изложения» как таковой. Там, где чистосердечие повествователя на истине базируется, последняя служит не предоставлением поступков Руссо – зачастую крайне неприглядных – на беспристрастный суд читателя, а процедурой самооправдания.
Де Ман адресует этому приему крайне формализованный литературный анализ, который ценен сам по себе как проявление исследовательской виртуозности, но в развертывании которого для понимания его результатов, похоже, нет нужды, поскольку и без того очевидно, что исповедь и одновременно применяемое в ее ходе оправдание, совершаемое одним и тем же лицом, вводит измерение лукавства и самоподрыва, которое от правильно нацеленного взгляда не ускользнет. Более того, там, где де Ман настаивает на необходимо светском характере своей текстуальной критики, становится очевидным, что те же самые изъяны могут быть описаны на языке сугубо религиозной ревностности, носитель которой гораздо отчетливее и практически не прибегая для этого к средствам текстуального анализа сможет засвидетельствовать, что проявленное Руссо ослепление самоотчетом идет вразрез с открыто заявленной им литературной целью.
Так или иначе, можно назвать тактику, ориентирующуюся на фиксацию и вскрытие подобных приемов первичной деконструкцией, деконструкцией низшего порядка, а в ряде случаев, по аналогии с психоанализом, даже «дикой». Речь идет о деконструкции, которая, независимо от изысканности примененных в ней критических средств, напрямую нацелена на разоблачение заинтересованности высказывающегося, бессознательно пытающегося скрыть примененные им средства и одновременно выставить себя, свои мотивы и свою философскую или политическую программу в более привлекательном и искреннем свете. Подобная деконструкция, о чем еще будет сказано далее, представляет собой подлинную проблему, потому что, невзирая на зачастую высокую сложность ее аналитической тактики (в случае де Мана – высочайшую, делающую его, с точки зрения многих, автором почти «нечитаемым»), дальше некоторого предела она никогда не идет и вынуждена признавать это. До какой бы степени тот же де Ман не осознавал, что своим разоблачением он вряд ли сможет сместить Руссо с занятого им в философской и литературной истории места – вследствие чего его анализ осторожно настаивает не на предельном изобличении Руссо как ловкого профанатора, а лишь на демонстрации внутреннего несовпадения отдельных мотиваций, усматриваемых на разных референциальных уровнях руссоистского высказывания, – все же полностью удержаться от акта довольно прямолинейного изобличения демановская деконструкция не может.
Не может от него до конца удержаться и Деррида, и можно предположить, что раздражение интеллектуальных корифеев, адресуемое его фигуре в тот период, когда его писания вызывали безоговорочный интерес, связано именно с тем фактом, что публика – даже из числа той, что просто-напросто наивно стояла на позициях нетронутой фундаменталистской истины и выдвигала против разоблачений Деррида соответствующие обвинения, – ощутила, что Деррида не договаривает и что здесь может скрываться что-то еще. Если Деррида не всегда удавалось поначалу это дополнительное измерение предъявить с той же отчетливостью, что и совершаемую им тактическую нападку на ту или иную ложную эссенциальность или очевидность, то лишь по той причине, что ему приходилось тактически избирать направление прилагаемых усилий, и в ряде случаев разоблачение, по всей видимости, представлялось ему делом более насущным. В то же время сводить его ранний вклад к этому измерению было бы ошибкой. Неодолимая и создаваемая нижним уровнем деконструкции методологическая трудность заключается в том, что в качестве дидактического метода такая деконструкция, с одной стороны, совершенно необходима, поскольку без нее любая критическая позиция будет лишь разрозненным собранием указаний на несостыковки анализируемого материала и тем самым вынуждена будет так или иначе до деконструкции подняться, но в то же время, будучи воспринята буквально, первичная деконструкция закрывает больше возможностей, чем призвана открыть.