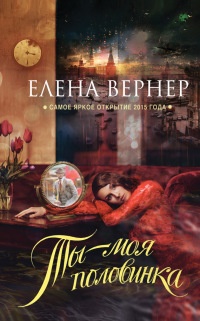20
– Как продвигаются ваши эксперименты? Все расширяете рамки поп-традиции?
Барри бросает на меня сердитый взгляд. Он терпеть не может, когда его спрашивают про группу.
– И что, они работают с тем же материалом, с каким хотел ты? – невинно интересуется Дик.
– Мы, Дик, не «работаем с материалом». Мы исполняем песни. Свои песни.
– Понял, – говорит Дик. – Извини.
– Надо же, Барри, – вступаю я. – И на что эти ваши песни похожи? На «Битлз»? На «Нирвану»? Или на «Папа Абрахам энд Смёрфс»?
– Непосредственно повлиявшие на нас исполнители тебе, скорее всего, незнакомы.
– Ну а вдруг?
– У нашей музыки в основном немецкие корни.
– Типа «Крафтверка», что ли?
Он смотрит на меня с сочувствием:
– М-м, едва ли.
– Кто же тогда?
– Ты о них не слыхал, Роб, так что помолчи.
– Хоть одно название.
– Нет.
– Хотя бы первые буквы назови.
– Нет.
– Да ты сам небось не знаешь.
Он топает вон из магазина. Это универсальный ответ. Мне слегка неудобно, но Барри просто необходимо время от времени как следует приложить.
Она в Лондоне. В справочной я узнаю номер ее телефона и адрес – она живет конечно же на Лэдброук-Гроув.[68]Я звоню, но держу трубку в дюйме от рычага, чтобы успеть бросить ее, если ответит кто-то другой. Отвечает кто-то другой. Я бросаю трубку. Минут через пять я предпринимаю новую попытку, но на этот раз подношу трубку чуть ближе к уху, и мне удается разобрать, что на том конце не человек, а автоответчик. Но я все равно нажимаю на рычаг. Я еще не готов слушать ее голос. На третий раз я выслушиваю сообщение; на четвертый оставляю на автоответчике свое. Мне становится странно при мысли, что все десять лет я мог сделать это в любой момент, но ее образ невероятно раздут моим воображением, и мне кажется, что жить она должна где-нибудь на Марсе, а попытки связаться с нею обойдутся в миллионы фунтов и займут не один год. Она инопланетянин, призрак, миф, а не живой человек, у которого есть автоответчик, набор посуды для китайской кухни и проездной на метро.
Голос у нее вроде бы стал старше, а выговор пофешенебельнее – Лондон сгладил ее прежнюю бристольскую картавость, – но это, без всякого сомнения, она. Она не говорит, что живет не одна, – то есть не то чтобы я ожидал, что в сообщении на автоответчике будут в подробностях изложены обстоятельства ее личной жизни, но я не слышу ничего типа «Ни Чарли, ни Марко сейчас не могут подойти к телефону» или, знаете, чего-нибудь в этом роде. Нет, только «Никого нет дома. Пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала». Я называю свое имя, и фамилию тоже, свой домашний телефон и говорю, что, мол, давно не виделись и все такое.
Она не перезванивает. Через пару дней я звоню снова и наговариваю то же самое. Опять ничего. Вот теперь-то я понимаю, что такое бросить по-настоящему: это когда даже десять лет спустя она не желает тебе перезвонить.
В магазине появляется Мэри:
– Привет, ребята.
Дик с Барри демонстративно удаляются, оставив меня на произвол судьбы.
– Пока, ребята, – говорит она им вслед и пожимает плечами.
Потом пристально всматривается мне в глаза.
– Ты что, избегаешь меня? – Она притворяется разгневанной.
– Нет.
Она хмурится и склоняет голову набок.
– Честно. Как я мог тебя избегать, если даже не знал, где ты была эти дни.
– В таком случае ты смущаешься?
– О да, еще как.
Она смеется:
– Не стоит.
Так вот, значит, чем чревата ночь с американкой – назойливым дружелюбием. Ни одна приличная английская женщина не приперлась бы сюда после единственной проведенной вместе ночи. У нас понимают, что о подобных эпизодах, как правило, лучше поскорее забыть. Но Мэри, я так полагаю, хочет обсудить ту ночь, разобраться, что мы с ней сделали не так; может быть, она намеревается отвести меня в группу коллективной психотерапии, где собираются пары вроде нас, у которых тоже не все сложилось в ночь с субботы на воскресенье. Наверно, нам предложат раздеться и восстановить ход событий, и тут-то я точно застряну головой в вороте фуфайки.
– Я зашла спросить, не хочешь ли ты вечером пойти послушать Стейка.
Естественно, не хочу. Нам с тобой, женщина, нельзя больше разговаривать, как ты этого не поймешь? Мы с тобой занимались сексом и поэтому должны отныне прекратить всякие контакты. У нас в стране такой закон. Если он тебе не нравится, вали туда, откуда приехала.
– Ага. С удовольствием.
– Знаешь, где находится Сток-Ньюингтон? Он там выступает. В «Уиверз армз».
– Да, знаю.
Я легко мог бы пообещать, а потом не прийти, но отлично понимаю, что приду.
И мы великолепно проводим вечер. Ее американский подход даже кажется мне разумным: то, что мы провели вместе ночь, вовсе не означает, что мы обязаны друг друга ненавидеть. Нам нравится, как выступает Стейк, а когда его вызывают на бис, Мэри выходит спеть вместе с ним (когда она поднимается на сцену, народ оглядывается сначала на то место, где она стояла, а потом на человека, стоящего рядом с тем местом, где она стояла, и мне от этого делается приятно). После концерта мы втроем едем выпить к ней домой и за выпивкой беседуем о Лондоне, об Остине, о музыке, но не заикаемся ни о сексе вообще, ни о давешней ночи, как если бы она была событием того же порядка, что и поход в индийский ресторан, то есть не требующим обсуждения и разбора. А потом я собираюсь уходить, и Мэри очень мило целует меня на прощанье, и домой я возвращаюсь с ощущением, что хоть с одной-единственной женщиной у меня складываются нормальные отношения, которыми, на фоне всех прочих, даже можно гордиться.
Чарли наконец звонит; она извиняется, что не откликнулась раньше, но ее не было в городе – она летала в Штаты, по делам. Я старательно притворяюсь, будто для меня подобные поездки – вещь обычная, хотя это, понятно, не так: мне случалось бывать по делам в Брайтоне, в Реддитче и даже в Норидже, но в Штатах – никогда.
– Ну как поживаешь? – спрашивает она, и долю секунды, не более того, но и этого могло бы хватить, я испытываю искушение прикинуться этаким бедненьким-несчастненьким: «Спасибо, Чарли, неважно, но ты не бери в голову. Летай себе по делам в Штаты, на меня внимания не обращай». К великой моей чести, я побеждаю соблазн и убедительно изображаю, что двенадцать лет, прошедшие с нашего последнего разговора, я ухитрился прожить полноценной человеческой жизнью.