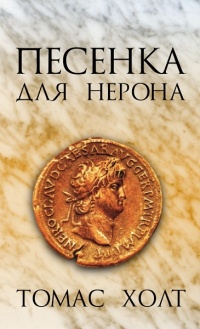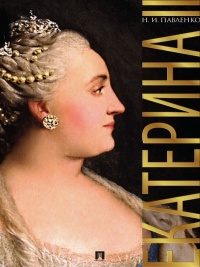Ознакомительная версия. Доступно 17 страниц из 85
В Болгарии был устроен прием, нас принимал Тодор Живков. Я оказалась рядом с ним, он меня все время бил по коленке, мол, ты хорошая актриса. Я при каждом ударе вздрагивала, но решила воспользоваться соседством и попросила помочь встретиться с Вангой. Живков велел референтам организовать поездку.
Я поехала к Ванге с одним философом, Любеном (он тогда писал доклады Живкову). Как мне велели накануне, ночью я положила под подушку кусочек сахара. Утром мы выехали в город Петрич, на границу с Грецией, и даже не в сам город, а в ущелье, где в летнем доме жила Ванга. По толпе около дома я поняла, что она здесь. Мы вошли.
Ванга была на открытой веранде, по периметру которой были установлены лавки. На них сидели простые деревенские бабы с какими-то золотушными детьми. Ванга как раз рассказывала им, как только что отдыхала на Черном море.
Голос уверенный, громкий. Хозяйка! И почему-то она била себя по коленке. Вспомнив Живкова, я решила, что это, возможно, характерный болгарский жест. Время от времени Ванга что-то доставала из кармана и нюхала. Я подумала, что сахар-то ей неважен, а вот то, что она сейчас нюхает, и есть допинг, который связывает ее с мистическим миром. Позже ее секретарша сказала мне, что это было обыкновенное туалетное мыло, его Ванге только что подарили, ей просто был приятен его аромат.
Я почувствовала себя крайне неуютно и подумала: а зачем мне все это нужно, что, собственно, Ванга мне может сказать такого, чего я сама о себе не знаю? Но было поздно. Ванга уже взяла мой сахар и громко спросила, есть ли у меня отец. Я кивнула. Она даже не слышала моего голоса, а уже твердила: «Да, но он умер, вот он тут стоит. А у отца есть брат Иван?» Да, братьев было несколько, и Иван тоже. И ее голос: «Да, но он умер, вот он стоит. А у матери есть еще муж?» Я кивнула. «Да, но он тоже умер, вот он стоит…» И все присутствующие это тоже слушают… Я шепнула Любену, что не хочу, чтобы она говорила о моей судьбе. Ванга как бы это почувствовала и стала разговаривать с Любеном о нем самом, о его науке. Она сказала, что ему не нужно заниматься политикой и писать доклады для других, что он должен работать над книгой по философии, и стала в разговоре употреблять какие-то современные философские термины, которых она и не должна была бы знать. Любен стоял перед ней, как школьник.
А потом, не переключаясь, она заговорила обо мне. Спросила вдруг, почему она видит меня в военной форме, и описала костюм Ангелики из фильма «Щит и меч». Она не знала, что я актриса. Я сказала, что это роль, одна из ролей. Она спросила: «А что ты здесь делаешь?» – «Приехала с театром на гастроли». – «А много ли вас приехало?» – «Человек сорок». – «Нет, больше, я вижу, что там около ста». Потом мы подсчитали – действительно, так оно и было. «А какой вы сегодня играете спектакль?» – «„Добрый человек из Сезуана“». – «Как, по-твоему, есть добрые люди?» Я говорю, не знаю, может быть, и есть. Она мне: «Нет, нет добрых людей. Впрочем, это шутка». Потом встала, обняла меня, сказала какие-то вещи, казалось бы, ничего не значащие в жизни, провела рукой по моей спине и велела не ходить на каблуках, и все будет хорошо. Голос у нее все время был уверенный.
Когда мы вышли от Ванги, Любен закурил, у него тряслись руки. А я думала о том, что неправильно сыграла сцену ясновидения. Нужна была иная сила уверенности и иной голос.
…В Москву вернулась совершенно другой, меня никто не узнавал. Вернулась человеком более спокойным. У меня не было вопроса отца Сергия – есть ли что-то там, за чертой, а был ответ Гамлета – да, есть.
Откуда в человеческой психике страсть к мистике, к чуду? Может быть, в нас атавизмом аукается древняя духовная традиция? Но ведь наша культура – это всего лишь совокупный духовный опыт человечества. Всегда в культуре разных эпох сосуществовали разум и чудо, знание и слепая вера, прагматизм и романтика, рассудочность и интуиция, аскетизм и чувственность.
XX век дал нам возможность проникнуть в глубинные тайны Природы и Вселенной, но почему чем дальше идут эти открытия, тем сильнее восстает мистика? Поняв что-то, мы опять стоим над бездной непостижимости.
Я стараюсь «плыть по течению», ибо давно поняла, что планировать жизнь бессмысленно, – любой сбой в запланированном существовании вызывает кризис. Этот закон – всеобщий, я его помню еще по изучению политэкономии в университете. Любая запланированность убивает неожиданность. Или ты можешь неожиданность, случай не заметить, пропустить. Мне кажется, что свой страх перед абсурдностью мироустройства можно побороть только фатальностью, то есть следует принимать жизнь такой, какая она есть. Научиться ценить момент и пытаться любую неожиданность, случай использовать в своих интересах. И при этом не убивать свою волю, иначе остановишься – вечное наше «а за-а-ачем?..» – и сомнения сделают жизнь совсем бессмысленной. Воля, как известно, всегда динамична, активна, всегда тяготеет к направлению. Воля всегда индивидуальна и окрашена только собственным желанием. Хотеть – значит мочь, как говорили древние.
Я пишу эти избитые истины, чтобы подхлестнуть и себя к действию, а то все чаще и чаще – словами Бродского:
Я не то что схожу с ума, но устал за лето.За рубашкой в комод полезешь, и день потерян…
«…Остановись, мгновенье! Ты не столь прекрасно, сколько ты неповторимо…»
(Иосиф Бродский)
1
1990 год. Неожиданно раздается звонок: «Это говорит Иосиф Бродский. Мы с вами не знакомы, но я хотел бы вас пригласить на вечер, посвященный столетию Ахматовой, который я устраиваю в Театре Поэзии в Бостоне». Я спросила: «А кто еще там будет?» – «Анатолий Найман, я, вы. И с американской стороны – актеры и переводчики».
Оформляя эту поездку, я все думала: что бы подарить Бродскому? И когда пошла за билетом, заглянула в «Букинист» недалеко от площади Маяковского. Я знала, что Бродский преподает теорию стихосложения в американских университетах, и, как нарочно, мне попались два сборника XIX века по теории и философии стихосложения. О, думаю, прекрасно! Покупаю и провожу их со страхом через таможню.
Хотя юбилей Ахматовой был в июне 1989 года, Бродский устроил вечер через полгода, 18 февраля 1990-го.
Мы с Анатолием Найманом приехали в Бостон, в Гарвардский университет за неделю до вечера. Я помню огромные сугробы, расчищенные дорожки, красные каменные дома, белок, которые никого не боялись. А по расчищенным снежным дорожкам из библиотеки – в столовую, из столовой – на лекцию бегали студенты в башмаках на босу ногу, в майках и шортах.
В Бостоне я была не первый раз. Кажется, за год до того в городском театре мы играли «Федру». Но тогда я жила в гостинице, надо было много работать. А тут нас с Найманом поселили в прекрасный старый двухэтажный гостевой дом в викторианском стиле, с милым служителем, который готовил нам завтраки. Можно было ничего не делать, гулять, ходить на званые ужины.
Вот мы и гуляли подолгу; я все время расспрашивала Наймана про Ахматову, и по его рассказам у меня сложилось ощущение некой его «близорукости» – из-за слишком близкого расстояния (такое же ощущение, кстати, возникает, когда читаешь записки современников о Пушкине или о Достоевском). Это мое ощущение подтвердилось и позднее, когда я читала наймановские воспоминания. Видимо, о близких людях писать не стоит, ибо надо все время держать себя в узде.
Ознакомительная версия. Доступно 17 страниц из 85