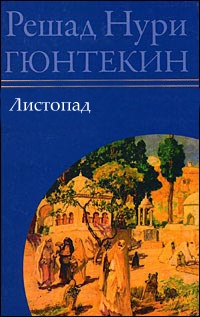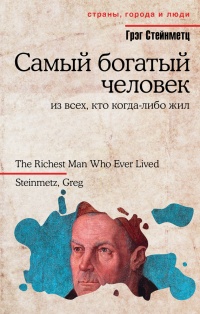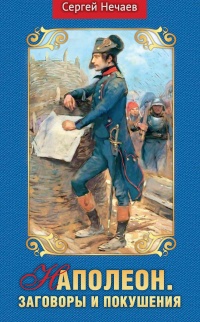— Возможнб, господин. Я не знаю, что меня ждет дальше. Как тут не расстраиваться? — Такими ответами я пытался от него отделаться.
Бедняга делал все возможное, чтобы отвлечь меня, находил новые книги, чтобы я мог занять чем-то свой ум, и одновременно требовал от инженера в строительной компании, чтобы тот давал мне больше работы.
Но все оказалось безрезультатно. Что бы я ни делал, где бы я ни находился, спастись от назойливой мысли, которая словно когтями теребила мне сердце, никак не удавалось.
Я не мог довести до конца ни одного дела и потерял способность интересоваться чем-то долгое время.
Все дела я бросал на половине: и счета в конторе, и письма, которые я пытался писать домой, и книги, которые начинал читать. Открыв шкаф, чтобы достать рубашку, я сваливал все вещи на середину комнаты и не находил в себе сил, чтобы собрать их. Мое отношение к окружающим людям также полностью изменилось. Я быстро уставал слушать, что мне говорят. В результате я начал ссориться со знакомыми, и они начали избегать меня.
Манеры нервного привереды отвадили от меня всех подруг, даже Рину. Только бедная Стематула в память о небольших привилегиях, которые я ей даровал, продолжала терпеть мои капризы. Остальные наблюдали за мной издалека.
Однообразие страданий и монотонность мыслей, вращающихся вокруг одного человека, грозили остановить мое развитие и превратить меня в одинокого пастуха, который пасет овец на вершине горы, постепенно сам превращаясь в глупое животное. Но к счастью, мучения, закрыв для меня связь с внешним миром, в какой-то мере компенсировали потерю, давая мне возможность погружаться в свой собственный, тесный мир.
Порой в книгах, полученных от каймакама, я находил строку или бейт, который пронзал мое сердце подобно стреле. Записав их на листе бумаги, я мог повторять эти строки целыми днями. Причем иногда со слезами на глазах. Число этих строк и бейтов увеличивалось с каждым днем. Их набралась целая толстая тетрадь, и по сравнению с абсолютной пустотой это было хоть какое-то занятие. Вместе с тем по прошествии месяцев страдания приняли более спокойную, менее безумную форму. Просыпаясь утром и глядя, как занавески белеют в утреннем свете, я смотрел в грядущий день со смиренной тоской и больше не боялся.
* * *
Ближе к лету того года Афифе и ее муж попытались временно прийти к согласию.
Я узнал об этом от возницы. По его словам, Рыфкы-бей вот уже два дня гостил в доме Селим-бея. Я не нашел ничего лучше, как броситься к каймакаму. Но, как назло, у него было крайне важное дело. Ничуть не удивившись новости, он сбил меня с толку своими словами:
— Да что ты? Вот и прекрасно, прекрасно... Значит, они помирились... Ну и ну!
Я же, естественно, впился в него как клещ. Говоря о том о сем, я все равно возвращался к этой теме. Едва дождавшись, пока несколько сельских старост удалятся из комнаты, я сказал:
— Селим-бей вам рассказывал что-нибудь?
Он пожал плечами:
— Разве ты не знаешь, что этот Селим-бей настоящая маковая коробочка?
— Значит, вы действительно ничего не знаете?
— Откуда же мне знать, если он не говорит?
— Да, конечно... не думаю, что этот тип решил постучать к ним в двери просто потому, что ему так в голову взбрело. Будь так, его бы прогнали.
— Да уж, после такого позора и скандала... Этот тип настоящий мошенник... Кто знает, что он написал Селим-бею. Горазд молоть языком. А тот — бестолочь, даром что роста высокого... Что уж тут скажешь, пусть Аллах дарует им мир и согласие...
Излишняя настойчивость была бессмысленна и даже опасна. Но я не мог сдержаться:
— Ладно, но как вы допускаете, что младшая сестра может выносить человека, которого вы назвали мошенником?
— Может или не может — это уже другой вопрос... Дело ясное: этот тип увидел жену во сне и решил: «А не побеседовать ли нам с ней пару дней?» Разве у него нет такого права? Такая женщина, просто загляденье... С одной стороны посмотришь — другую сторону видать. Что за беда, если он ее несколько дней будет на руках держать, целовать-миловать? Вдобавок этот дурак Селим-бей его накормит бесплатно...
«Такая женщина, просто загляденье», «с одной стороны посмотришь — другую сторону видать».
Вульгарные и немного циничные замечания каймакама подействовали на меня, неопытного юношу, сильнее, чем удар кнутом и выставили Афифе совсем в других красках.
Неделями эти смешные слова докучливо вертелись у меня в голове. Я повторял их вслух, как строки лирического стихотворения, и плакал. Не меньшее впечатление на меня произвела фраза «он ее несколько дней будет на руках держать, целовать-миловать».
Естественно, Афифе пустила мужа в свою комнату, спала с ним в одной кровати. В моей кровати. Но если бы каймакам не заговорил об этом, я никогда не стал бы представлять ее полуобнаженной, бьющейся в объятиях мужчины.
Через несколько дней каймакам сказал:
— Нам следует их навестить, все-таки зять приехал. Хоть поздороваемся с бедолагой, иначе опозоримся.
Несмотря на твердое решение избегать встречи, пока Афифе и муж вместе, я сразу согласился.
Рыфкы-бей выглядел немного старше, чем на фотографии, его волосы местами поредели, в них проглядывала седина. Человек он был умный и симпатичный. Ни в одной его черте не угадывалось сходства с бродягой, которого мне описали. Напротив, о чем бы он ни говорил, ему удавалось странным образом расположить к себе собеседника.
Он долго рассказывал каймакаму о своем новом предприятии. На бескрайних землях, протянувшихся от Чине к Айдыну, выращивался солодовый корень, который он собирался продать в Европу, договорившись с одной измирской компанией. Затраты были незначительны: только поденная плата безработным деревенским женщинам и детям.
Хотя совсем недавно каймакам клятвенно уверял, что этот человек — бродяга, каких свет не видывал, теперь он постепенно приходил в возбуждение и дошел до того, что выпрашивал у Рыфкы-бея работу для себя. Если скоро придется уйти в отставку.
Несомненно, Рыфкы-бею много рассказывали обо мне. Он встретил меня как знакомого, задал несколько вопросов о жизни в Миласе и даже о моем несчастном случае. Он предполагал, что я, как политический ссыльный, должен обладать развитым интеллектом, и поэтому хотел обсудить со мной те же вопросы, что и с каймакамом. Но в тот день в кругу друзей, который заметно сузился за время моей болезни, я бросал на всех такие испуганные взгляды и отвечал настолько невпопад, что казался сущим ребенком. За пять-десять минут Рыфкы-бей потерял ко мне интерес, и я остался один в углу комнаты, забытый всеми.
По разным причинам я терялся, беседуя с Рыфкы-беем. Прежде всего, я считал его соперником и постановил, что нам нужно постоянно держаться на расстоянии и общаться довольно сдержанно. Также я был убежден, что виноват перед этим человеком и веду себя бессовестно по отношению к нему, хотя моя любовь к Афифе касалась только меня одного. И, наконец, я внушил себе, что буду ревновать, когда увижу их вместе, и даже выдам себя опрометчивым движением. Поэтому отсутствие интереса к моей персоне со стороны Рыфкы-бея и прочих придавало мне уверенности. Как детеныш черепахи, я постепенно высовывал голову из панциря и начинал оглядываться.