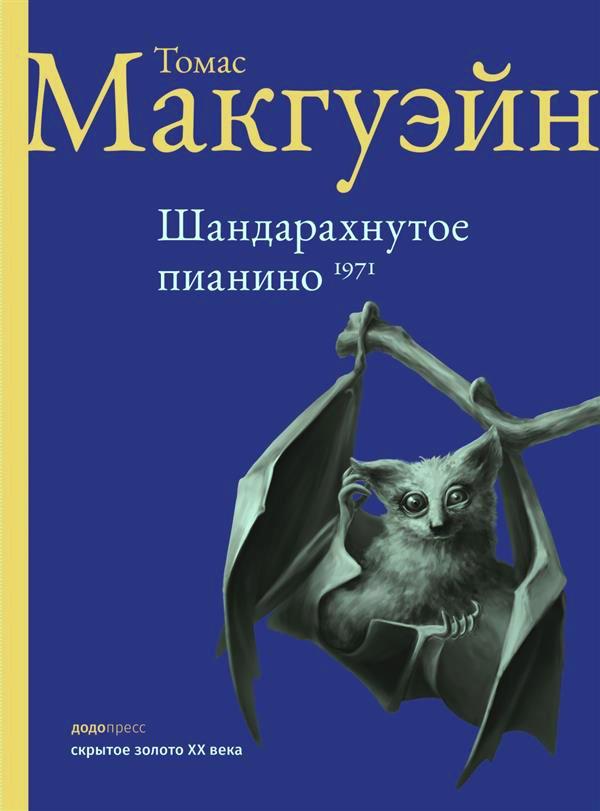кружево которой сквозили ровные, точно из свежей газеты нарезанные, березы и россыпи остроконечных крестов.
– Пошли, зайдем, – сказал вдруг Верман и, въехав в талый сугроб на обочине, заглушил мотор. Надвигались сумерки, но еще ярко синел церковный купол за оградой, и еще видно было, как продолговатое облако медленно перетекает по всему небу с востока на запад. Капало с берез, и вороны, казалось, не каркали, а рифмовали что-то, и рабочий в цигейковой ушанке посыпал тропинки песком, и почему-то стало тепло. Тепло, хорошо, не страшно.
Верман рассказывал что-то про здешнее имение и графиню Прасковью, рука у него была горячая, снежок в ней – холодный, и еловые лапочки хрустели у нас под ногами.
***
– …И они встретились снова, – заключил Верман, – А ведь ничто не предвещало такого счастья. Ну, так расскажи, как ты жила без меня?
Как, как. Жила. Ела, пила, спала. Мыла окна.
Какие окна, дурочка?
…Да не знаю, просто увидела, вон, смотри, сирень подзаборная, весь куст в снегу, а все же ясно, что она, не спрячешь, вон кисточки прошлогодние, видишь… Помню, в школе мыли окна. Уже каникулы были, я знала, что еду в Москву, мы шли каждое утро, брали мыло, газеты и заходили в класс. Весело так – зайдешь, а уроков нет, директриса в отпуске. В коридоре пустота – осторожная, свежая, липкая. Пол покрашен.Распахнешь раму – и так и завалится на подоконник эта сирень, вот такая же, но в листве, вся живая, мокрая, знаешь, настоящая… кисти тяжелые, как стекло… и рядом еще другая, присобачилась, – «персидская», все звали ее, да какой там, персидская… цветочки мелкие, бусинками, и запах, назойливый какой-то, вот только что не тявкает, ну вот как есть собачий … Что ж ты смеешься… Дай рассказать. Мыла окна и думала про тебя. Окно вытираю – а ты в нем улыбаешься. Выйду за водой в коридор – а ты на подоконнике сидишь. Вот так и думала. И то, что скоро в Москву, и эта сирень персидская, и то, как мы.
***
Это так страшно. Представить, что неосторожной мыслью можно изменить ход светил. Я думала, каюсь, думала – вот если провалится у Вермана в никуда его прелестная жена, то что будет? И вот раздался звонок, и осиротевший голос Вермана сказал мне, что будет. И как теперь откреститься от того, что думала, словно бы хотела, да, хотела, но не такой же ценой… Но ведь это же не я, скажи, не я виновата в его неприкрытом, прильнувшем ко мне, голом горе, чего ж ты хочешь от меня, что ж ты просишь теперь, совесть?
Да, наверное, все то же: открыть, рассказать, а больше рассказать некому, вернее, умри, а расскажи все, не сходя с места, тому, кто рядом сейчас, с кем все будет по-другому.
Будет.
По-другому.
Приступ идиотизма. Мэри Энн, и никаких сомнений
Но тогда эта мысль почему-то не пришла мне в голову.
***
И я видела, со священным ужасом Кассандры, что Дима не верит мне, – видела, и все-таки рассказывала дальше.
Полонез Огинского возвестил наступление утра.
Дима рассеянно хлопнул слоника по спине, встал с постели, подошел к холодному, сбрызнутому предрассветной, мартовской уже синькой, окну, и, глядя на брандмауэр, сказал:
– Ну, и что теперь? Побежишь встречаться?..
Брандмауэр был большой, глухой и темный. Никаких огненных букв там больше не проступало.
Он сказал, какого черта, мой телефонный номер, мой ЛИЧНЫЙ телефонный номер, будут тут еще звонить всякие придурки − если мы вместе, остальное должно быть отрезано, я не должен ничего знать о тебе, а ты обо мне. Он сказал, как ты вообще могла так со мной, как он тебя нашел, кто ему сказал, твою мать?..
Потом замолчал, ушел в ванную, и все пошло как обычно.
Так, да не так.
На меня он не смотрел, говорил односложно и старался, передавая мне ложку или снежную стопку салфеток, не касаться моей руки.
Сел за стол, посмотрел в окно. Провел ложечкой по кофейной пене, глотнул, встал из–за стола и ушел на весь день.
***
…Сидишь на уроке французского, никого не трогаешь, и вдруг услышишь, как стихотворный текст, ровный и сухой, точно подрезанный ножом бисквит, начинает всхлипывать в конце каждой строчки.
Il a mis le café
Dans la tasse
Il a mis le lait
Dans la tasse de café
Il a mis le sucre
Dans le café au lait
Avec la petite cuillerе
Il a tourné
Il a bu le café au lait
Et il a reposé la tasse
Sans me parler1
…Что ж это такое? Неужели такой ценой учатся картавить, произносить французскую «р»?
Et il est parti
Sous la pluie
Sans une parole
Sans me regarder
Et moi j'ai pris
Ma tête dans ma main
Et j'ai pleuré.2
***
Вечером он вернулся поздно, ужинать не стал, заварил кофе. Тревожный запах – некстати, не вовремя. И ночь надвигалась некстати, не вовремя, и был в ней только один вопрос: как же так вышло? А ответа не было.
Я сидела около балкона, имитируя пижамное настроение, не включая света, на коленях – книга, в горле – слова невысказанные.
Потом решила, что надо поговорить. Заглянула к нему на кухню – и он тут же из кухни вышел. Началась какая-то игра, вроде пряток: я нашла его на балконе − он ушел с балкона. И мне стало смешно, хотя происходило что-то грустное. Сумерки были такие ласковые, теплые, неспешные, на стене начали медленно таять фотографии, и ушли в тень ромашковые занавески и груда свежевыстиранного белья на столе. Четкая, еще горячая, серебряная печатка утюга стояла на распахнутом окне, а рядом был забыт на блюдечке огрызок яблока.
Как так вышло, как же вышло… Раз два три четыре пять.
Лисит сидел перед телевизором, как кот у аквариума. Я впервые увидела, какой у него запавший, слабый, неприятный какой-то подбородок. Золотая рыбка в аквариуме улыбалась и предсказывала солнце и редкие осадки на ближайшие два дня.
Кофе дымился на столике рядом с телефоном.
– Дим, – сказала я и присела рядом.
Губы Лисита неожиданно изогнулись, и я не узнала его прежнего легкого тенора, когда он произнес:
– Иди, стели себе на диване.
Я вышла из спальни, бес ярости ткнул меня в ребро, и, практически не размышляя, я набила сумку вещами, неслышно открыла дверь и навсегда покинула этот