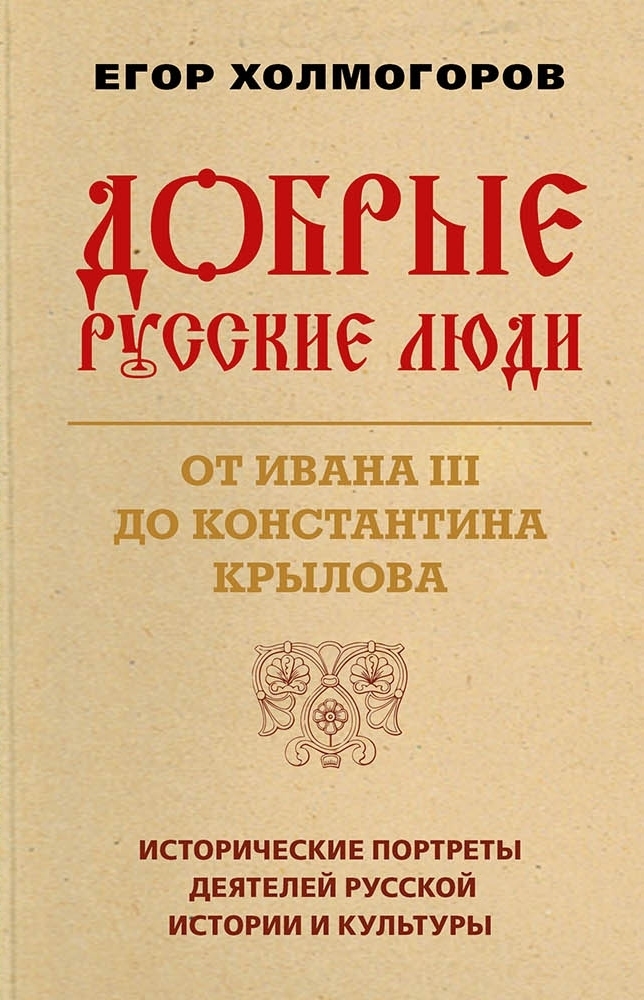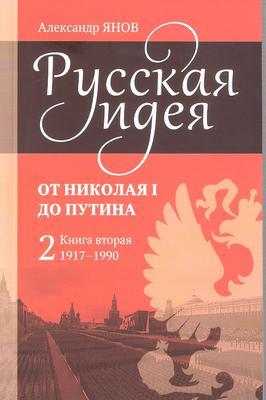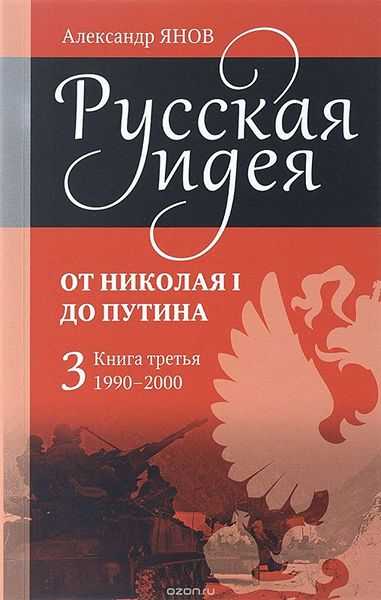раз мелькнут), то было бы уже теперь выстроено на семьдесят пять миллионов азиатских дорог, то есть с лишком тысячу верст, как ни считать. Затем, вы толкуете про убыток. О, если б вместо нас жили в России англичане или американцы: показали бы они вам убыток! Вот они-то бы открыли нашу Америку. Да знаете ли, что там есть земли, которые нам менее известны, чем внутренность Африки? И знаем ли мы, какие богатства заключаются в недрах этих необъятных земель? О, они бы добрались до всего, до металлов и минералов, до бесчисленных залежей каменного угля, – всё бы нашли, всё бы разыскали, и материал, и как его употребить. Они бы призвали науку, заставили бы землю родить им сам-пятьдесят, – ту самую землю, про которую мы всё еще думаем здесь, что это лишь голая, как ладонь наша, степь. К добытому хлебу потянулись бы люди, завелась бы промышленность, производство. Не беспокойтесь, нашли бы потребителей и дорогу к ним, изыскали бы их в недрах Азии, где они дремлют теперь миллионами, и дороги бы новые к ним провели!».
Русская Азия как Русская Америка – заметим, что в конце XIX – начале XXI века русская экономика шла именно этим маршрутом. Транссиб, который открыл доступ к богатству Сибирской Азии. Турксиб, который из-за советской национальной политики, не смог помочь русским в полной мере использовать богатства Азии Центральной. Извлеченные, как раз по английской методе, богатства сибирских недр – нефть, газ, металлы это был ровно тот козырь, который позволил России в конечном счете хотя бы отчасти сравняться в могуществе с Европой, а русскому человеку в его стапятидесятимилионной массе зажить некоторым подобием достойной мысли. Козырь этот использован был не полностью, как из-за скатывания в итоге в революционный социалистический проект, которому как мог противостоял Достоевский, так и из-за нового тура повязывания финансовой мировой плутократией.
Характерно, кстати, что, говоря об Азии Достоевский ни в коем случае не имеет в виду культурного и этнического обазиачивания. В этом смысле его логика прямо противоположная евразийской. Он говорит об утверждении русского народа в пространстве Азии. «Где в Азии поселится «Урус», там сейчас становится земля русскою. Создалась бы Россия новая, которая и старую бы возродила и воскресила со временем и ей же пути ее разъяснила». Записывать Достоевского в сторонники нерушимого блока евразийских трудящихся было бы огромной ошибкой.
Наконец, Достоевский фактически, провозглашает принцип автаркии больших пространств, отмечая, в частности, благо недонаселенности России, которое сработает в её пользу, когда Европа начнет задыхаться под давлением мальтузианских проблем.
«Когда в Европе, уже от одной тесноты только, заведется неизбежный и претящий им самим унизительный коммунизм, когда целыми толпами станут тесниться около одного очага и, мало-помалу, пойдут разрушаться отдельные хозяйства, а семейства начнут бросать свои углы и заживут сообща коммунами; когда детей будут растить в воспитательных домах (на три четверти подкидышами), тогда – тогда у нас всё еще будет простор и ширь, поля и леса, и дети наши, будут расти у отцов своих, не в каменных мешках, а среди садов и засеянных полей, видя над собой чистое небо».
Достоевский, конечно, не предугадал, что свои мальтузианские проблемы европейцы успешно решат без всякого коммунизма просто добившись отрицательной рождаемости, и заменив проблему перенаселения проблемой миграции. Его мысль движется в другую сторону – к введению режима национальной экономии, который выведет Россию из-под гнета мировой плутократии:
«Да, много там наших надежд заключено и много возможностей, о которых мы здесь и понятия еще составить не можем во всем объеме! Не одно только золото там в почве спрятано. Но нужен новый принцип. Новый принцип и потребные на дело деньги родит.
Ибо к чему нам, если уж всё говорить, – к чему нам (и особенно в теперешнюю минуту) содержать там, в Европе, хотя бы столько посольств с таким столь дорого стоящим блеском, с их тонким остроумием и обедами, с их великолепным, но убыточным персоналом. И что нам там (и именно теперь) до каких-то Гамбетт, до папы и его дальнейшей участи, хотя бы и угнетал его Бисмарк? Не лучше ли, напротив, на время, в глазах Европы, прибедниться, сесть на дорожке, шапочку перед собой положить, грошики собирать: дескать, «La Russie опять se recueille». А дома бы тем временем собираться, внутри бы тем временем созидаться!
Скажут: к чему ж унижаться. Да и не унизимся вовсе! Я ведь только в виде аллегории про шапочку сказал. Не то что не унизимся, а разом повысимся, вот как будет! Европа хитра и умна, сейчас догадается и, поверьте, начнет нас тотчас же уважать!
О, конечно, самостоятельность наша ее, на первых порах, озадачит, но отчасти ей и понравится. Коль увидит, что мы в «угрюмую экономию» вступили и решились по одежке протягивать ножки, увидит, что и мы тоже стали расчетливыми и свой рубль сами первые бережем и ценим, а не делаем его из бумажки, то и они тоже тотчас же наш рубль, на своих рынках, ценить начнут.
Да чего, – увидят, что мы даже дефицитов и банкротств не боимся, а прямо к своей точке ломим, то сами же придут к нам денег предлагать, – и предложат уже как серьезным людям, уже научившимся делу и тому, как надо каждое дело делать…».
Итак, Достоевский предлагает вполне себе «листианский» рецепт – автаркия больших пространств, колонизация и освоение новых ресурсов, жесткая экономия и автономия от мировой финансовой системы и кредитной кабалы. Рецепт совпадающий с его устоявшейся репутацией консерватора и реакционера. То есть единственный рецепт, ведущий нацию к богатству.
Достоевский был представителем «типа экономического мышления, к которому сегодняшние богатые страны прибегали в период своего перехода от бедности к богатству» – по выражению норвежского экономиста Эрика Райнерта.
Этот тип, по его оценке, сегодня утерян, о чем говорит следующий приводимый им выразительный пример: «В недобром 1984 году Библиотека Бейкера при Гарвардском университете решила избавиться от книг, которые за последние 50 лет никто не запрашивал. Среди этих книг оказалась почти вся коллекция Фридриха Листа, важного немецкого теоретика промышленной политики теории неравномерного развития. Один бостонский букинист сообщил мне, что купил у Библиотеки Бейкера книги, которые, как он выразился, как будто специально для тебя продавались. Они пополнили мою коллекцию».
С начала второй трети ХХ века никто из гарвардских преподавателей и студентов не проявил интереса к той экономической философии, которая сделала богатой и промышленно развитой страной не только Германию, но и сами США, проводившие весь XIX век жесточайшую протекционистскую политику (и проводящие её