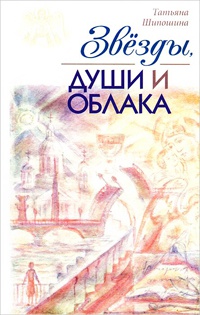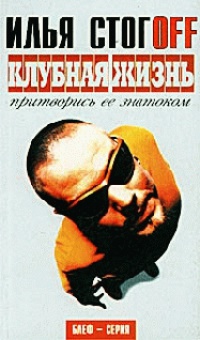— Но кто лидер группы? Чем он занимается? — продолжал спрашивать заинтересовавшийся интервьюер.
— Я не знаю, кто он такой. Знаю только, что он продает грезы, — простодушно ответил Бартоломеу.
— Продает грезы? Как это? Этот субъект не опасен? Он не сумасшедший?
Ученик посмотрел вокруг и, сделав широкий жест, ответил:
— Сумасшедший он или нет, я не знаю, знаю только, что он говорит, будто все мы живем во всемирном сумасшедшем доме. Шеф хочет перестроить мир, — говорил Бартоломеу, демонстрируя, какие невероятно великие цели ставит перед собой его учитель.
На самом деле учитель хотел заставить людей испытать жажду перемен, ибо только от них эти перемены зависят.
Совершенно сбитый с толку, щелкопер продолжал задавать вопросы:
— Что? Этот оборванец утверждает, что мы живем в глобальной психиатрической лечебнице? И вы в это верите?
— Не знаю, удастся ли ему изменить мир, но мой мир он меняет, — чистосердечно отвечал Бартоломеу.
— Вы анархисты?
Бартоломеу ничего не знал о движении анархистов. Ему не было известно, что Пьер Жозеф Прудон, идейный вдохновитель этого движения, возникшего в 19 веке, выдвигал тезис о построении нового общества, способного расширить права человека и освободить рабочих от эксплуатации промышленным капиталом. В этом новом общественном порядке, созданном организованными рабочими, люди относились бы к своим партнерам справедливо и развивали бы свои возможности. Анархисты не признают ныне действующее правительство, его законы и распоряжения. Они предпочитают жить под собственным управлением. Без опеки государства человек, по их мнению, был бы свободен.
Учитель не разделял основной идеи анархистов. С его точки зрения, человек, не руководствующийся конституцией и не подчиняющийся государственным институтам, творил бы кошмарные жестокости, уродовал бы права других людей, убивал, грабил, жил бы по своим собственным законам и демонстрировал беспрецедентную дикость. Не хотелось ему также, чтобы возрождалось движение хиппи, возникшее во время американо-вьетнамской войны. Чувство разочарования, охватившее молодежь из-за этой войны, породило крушение надежд, связанных так или иначе с государственными институтами. А это, в свою очередь, породило движение за мир и любовь, однако же без каких бы то ни было социальных обязательств.
Проект торговли мечтами, наоборот, был насыщен обязательствами перед обществом, в особенности в том, что касается прав человека, свободы и психического здоровья. Поэтому тем, кто решил следовать за учителем, он рекомендовал не отказываться от своих общественных обязанностей. И лишь отдельных людей, возможно, наиболее экстравагантных, он брал себе в ученики.
Бартоломеу не знал, что мы не анархисты. И хотя этот экстравагантный ученик не понял сути вопроса, он дал ответ из области наивной философии.
— Послушай, дружок, я понятия не имею, анархисты мы или нет. Что мне известно, так это то, что до самого последнего времени я не знал, кто такой я сам.
— А теперь знаете? — продолжал интересоваться интервьюер.
Ответ нашего друга окончательно поставил репортера в тупик.
— Теперь? Теперь я знаю еще меньше. Я не знаю, кто я такой и что я такое, ибо то, как я раньше себя представлял, оказалось неправдой. Сейчас я принимаю противоядие от того, кем я был, для того, чтобы стать тем, кем я являюсь сейчас. Пока я еще не понимаю, кто я такой, но я ищу себя. Понял, нет?
— Нет! — честно ответил репортер, в голове которого роились одни сомнения.
Бартоломеу радостно отреагировал на эти слова.
— Ого! Как здорово! Я думал, что только я не понимаю. Послушай, приятель, единственное, что я знаю, так это то, что раньше я падал каждый день, а сегодня поднимаю некоторых других, — сказал Бартоломеу и, пристально глядя в глаза репортеру, со страстью в голосе произнес: — А вам не хотелось бы войти в нашу группу?
— Мне — нет! Это дело для придурков, — категорически отверг предложение репортер.
Почувствовав обиду, Бартоломеу на этот раз ответил без присущей ему наивности:
— Ты, хмырь! Откуда тебе это известно? И кроме того, это так хорошо — быть сумасшедшим!
После чего Бартоломеу, проявляя полное неуважение к репортеру, пошел прочь с распростертыми руками, на- певая своим пронзительным голосом отрывок из произведения Рауля Сейксаса, которое ему очень нравилось: «Я бу-у-уду прекрасным безумцем». Бартоломеу не простился с репортером, а вместо этого закричал: «Ах! Как я люблю эту жизнь!» — и двинулся вперед вразвалку, напевая: «Я бу-у-уду прекрасным безумцем». Он был вне себя от радости.
Журналист еще до интервью с Бартоломеу разработал для себя план и примерное содержание репортажа. Ему оставалось лишь уточнить кое-какие данные. На него давила предубежденность. Бартоломеу же испытал такую эйфорию от первого интервью, что полностью забыл о воздержании и решил пойти и отметить это событие — отправился в бар и надрался. Это был третий рецидив с тех пор, как его пригласили в группу, только первые два были менее глубокими. На этот раз он превзошел самого себя, и дело кончилось тем, что его вышвырнули на улицу.
Заметив его отсутствие, мы начали волноваться. Учитель предложил пойти за ним. Мы с друзьями, не обладавшие таким терпением, говорили друг другу: «Опять! У этого типа нет никакой совести». Час спустя мы нашли его почти в бессознательном состоянии, поставили на ноги, но стоять он не мог. Поняв, что у него размякли мышцы и отсутствовало желание идти, мы подхватили его под обе руки и повели. Димас подталкивал сзади.
— Потише, дружок… Буфер слабоват, — требовал он от Димаса заплетающимся языком.
Время от времени он издавал звуки, идущие откуда-то из живота, вместе с вонью; несло от него похуже, чем от какой-нибудь старой коровы. И при этом он даже подшучивал над нами!
— Мужики, извините за неисправную выхлопную трубу.
Очень хотелось отвесить ему хорошую оплеуху. Возникла мысль: «Нужно было покинуть мир академических идей, чтобы выслушивать откровения какого-то пьянчуги. Это просто невообразимо!» Я никогда не любил ближнего своего, если он не отвечал мне взаимностью. Без взаимности я вообще не считал его ближним. Сейчас я проявлял заботу о человеке, который мало того что не отвечал мне взаимностью, но еще и всячески досаждал мне. Последние тридцать метров нам пришлось буквально нести его на руках, так как он совершенно не мог идти. Ужаснее всего были его признания в любви к нам на плохом английском:
— I love you, мужики, I love you very much, much, much.
Вспотевшие и уставшие, мы заговорили хором:
— Заткнись, Бартоломеу!
Но безрезультатно. Просьба успокоиться лишь обостряла его застарелую патологическую страсть к болтовне. По дороге к виадуку он раз десять сказал, что любит нас. Возможно, он говорил правду, а может быть, его расположение к нам было сильнее, чем наше к нему. Когда мы дотащились до виадука, размякший пьянчужка попытался расцеловать нас в знак благодарности. Это было уже слишком. Мы бросили его на пол, постаравшись однако, чтобы он не ударился головой. Совсем обнаглев, он посмотрел на нас и произнес: