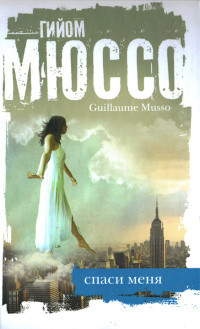«Вера христиан в Иисуса — идолопоклонство, и оно гораздо хуже веры израильтян в золотого тельца, ибо христиане заблуждаются, утверждая, что нечто святое вошло в женщину, в зловонное место… полное фекалий, мочи и менструальной крови, которое служит вместилищем мужского семени».
Иногда Висторини удивлялся, как такие слова могли быть преданы бумаге, ведь инквизиция существует более ста лет. Евреев и арабов штрафовали, заключали в тюрьмы, казнили за более легкие богохульства, чем это. Он осуждал распространение типографий в Венеции. Официально евреям запретили издательскую работу, однако исподтишка они продолжали свою деятельность: выступали от имени какого-нибудь христианина, которому платили за это несколько золотых цехинов.
Не каждому человеку, пожелавшему стать печатником, следует выдавать разрешение. Некоторые из них, очевидно, были невежественны, а другие, возможно, имели преступные намерения. Нужно обсудить это с Иудой Арийе. Евреи должны держаться в рамках, или инквизиция их к этому принудит. Даже человек глупее Иуды мог бы понять это.
Стоило о нем подумать, как Висторини увидел алый колпак раввина Арийе. Тот, стараясь не привлекать к себе внимания, пробирался через толпу Фреццерии. Там торговали стрелами. Арийе шел ссутулившись, опустив голову, поза, которую он принимал, выйдя из Гетто. Висторини протянул было руку, чтобы остановить его, потом передумал. Стоял, разглядывая раввина. Как много мелких унижений приходилось тому испытывать: оскорбительные выходки неотесанных мальчишек, язвительные замечания и плевки невежд. А ведь достаточно этому упрямцу принять истинность христианства, и все оскорбления вмиг закончатся.
— Иуда Арийе!
Голова раввина дернулась, как у оленя, ожидающего выстрела лучника. Но, когда он увидел Висторини, опасливое выражение сменилось улыбкой.
— Доменико Висторини! Как давно, падре, я не видел вас в своей синагоге!
— Ах, рабби, человеку всегда есть за что каяться. Мне бы и хотелось послушать тебя, но каждый раз чувствую собственное ничтожество пред столь красноречивым оратором.
— Падре, вы надо мной смеетесь.
— Ни к чему ложная скромность, Иуда.
Раввин так прославился своими толкованиями Библии, что проповедовал по еврейским праздникам в четырех синагогах. Многие христиане, включая монахов, священников и аристократов, приходили в Гетто его послушать.
— Епископ из Падуи, которого я приводил в прошлый раз, согласился, что никогда еще не слышал такого замечательного изложения, — сказал Висторини.
Он не прибавил, что слышал проповедь епископа, посвященную тому же тексту, шестью неделями позже в соборе Падуи и подумал, что речь епископа не более чем мука, смолотая жерновами интеллекта раввина. Висторини был уверен, что немало священников, приходили в синагогу украсть слова раввина. Сам он завидовал не столько содержанию, сколько страстной манере изложения, которую ему хотелось бы перенять.
— Как бы мне хотелось, чтобы паства была мне так же предана, как тебе. Я стараюсь узнать твои секреты, донести до людей слово Божье, но увы! Они остаются ко мне глухи.
— Мысли человека и способность выражать их исходят от Бога, и если мои слова получают отклик, то пусть они будут в Его честь.
Висторини подавил насмешку. Неужели раввин в самом деле верит в такие избитые банальности? Арийе заметил недовольное лицо Висторини и сменил тему:
— Что до секретов, отец, у меня он один: если паства ожидает проповедь на сорок минут, сократите ее до получаса. Если рассчитана на тридцать минут, дайте им двадцать. За все мои годы служения раввином мне никогда не поступало жалоб за то, что проповедь оказалась слишком короткой.
Священник улыбнулся.
— Ну а теперь ты смеешься! Пройдемся немного вместе, если можешь, мне нужно кое-что с тобой обсудить.
Во время беседы с Висторини Иуда Арийе расправил плечи и теперь в компании солидного спутника шел, высоко подняв голову. Темные волосы тугими локонами спускались из-под алой шляпы, в них, как и в бороде, виднелись более светлые каштановые пряди. Висторини завидовал внешности Иуды: высокий, хорошо сложенный, разве только излишне худощавый. И кожа золотисто-оливковая, не похож на бледнолицых ученых. Впечатление портил только этот головной убор.
— Иуда, зачем ты носишь эту шляпу? Ведь тебе можно носить и черную.
Алый цвет символизировал пролитую иудеями кровь Христа. Висторини знал, что некоторым позволили ее не носить.
— Дом падре, я прекрасно знаю, что при наличии друзей и денег в Венеции можно сделать все, что угодно. Денег, как вы знаете, у меня нет. Есть несколько друзей, которые могли бы мне посодействовать, замолвив словечко, и я мог бы носить черную шляпу и ходить по улицам, не подвергаясь оскорблениям. Но если бы поступил так, не знал бы жизнь такой, какою знают ее люди моей паствы. А я не хочу от них отделяться. Что скрывать, мне бы хотелось, чтобы дочь шила мне берет из бархата на шелковой подкладке, но я сделаю так, как требует закон, ибо достоинство человека происходит не от того, что он носит на голове. Красная шляпа, черная шляпа — какая разница? Ни одна из них не скроет моих мыслей.
— Хорошо сказано. Я должен бы знать, что ты приведешь мне доводы, столь же безупречные, как сад в бенедиктинском монастыре.
— Не думаю, что вы пригласили меня пройтись ради обсуждения шляп.
Висторини улыбнулся. Он не хотел признаться даже самому себе, что иногда чувствовал себя ближе к этому остроумному образованному еврею, чем к иным католическим священникам.
— Нет, конечно. Будь добр, присядь.
Висторини указал жестом на низкий парапет у канала.
— Прочитай это, — он передал книгу, открытую на оскорбительной странице.
Арийе читал, слегка раскачиваясь, словно в синагоге. Закончив, устремил взор на канал, стараясь не глядеть на друга.
— Явное нарушение «Индекса»[17], — сказал он.
Его тон был абсолютно нейтрален и бесстрастен. Висторини часто с горечью замечал, что, хотя Арийе, как и он сам, приехал в Венецию из каких-то других мест, говорил, как урожденный венецианец на мягком городском диалекте, как все в Канареджо, городском районе — сестьере, в котором жил. А Доменико как ни старался, но так и не смог отделаться от акцента, приобретенного в детстве.
— Это даже посерьезнее, — сказал Висторини. — Такой намеренно провокационный текст привлечет внимание. Совет Десяти обрушит свой гнев на все Гетто. Ты поступишь хорошо, друг мой, если сам уладишь это дело, прежде чем им займемся мы. Ты должен закрыть эти типографии.
Иуда Арийе повернулся к священнику.
— Автор текста писал не для провокации, он просто изложил истину так, как он ее понимает. Ваши теологи отказались от логики ради доктрины, рассматривающей ту же тему. Что такое в конце концов непорочное зачатие, как не плод людских измышлений, результат стараний справиться с вульгарной реальностью человеческой физиологии? Мы, евреи, куда более трезво смотрим на такие вещи.