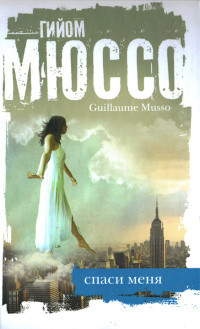Висторини набрал в грудь воздуха и готов был протестовать, но Арийе предупреждающе поднял руку.
— Я не хочу тратить прекрасное утро на теологические споры. Мы с вами давно поняли, что в этом нет смысла. Оставим достоинства и недостатки этой книги. Думаю, вам нужно реалистично взглянуть на положение вашей организации в Венецианской республике. Количество дел, которые инквизитор способен довести до суда, падает из года в год. И большая часть тех, что доходят до суда, прекращаются за недостатком доказательств. Я не утверждаю, что мы вас не боимся, но боимся меньше, чем прежде. Скажу, что мои люди говорят о вашей организации: «Их яд испарился, а рецепт на приготовление нового они потеряли».
Висторини поковырял мох, росший на ближайшем камне. Как и всегда, в том, что сказал его друг, была правда. Покойный папа, Григорий XIII признавал слабость своих позиций, о которой говорил раввин: «Я папа повсюду, за исключением Венеции». Но с приходом в Рим нового папы Висторини почувствовал опасное настроение. Он не мог напрямую бросить вызов дожу и Совету десяти, однако мог сделать это через городских евреев. Даже раненый зверь способен набраться сил и броситься в последнюю атаку.
— Рабби, я надеюсь и говорю об этом абсолютно серьезно, что у вас нет желания вспоминать уроки прошлого, уроки террора и гонений. Среди вас, потомков испанских беженцев, есть еще те, кто помнит ужасные обстоятельства, из-за которых пришлось бежать сюда?
— Мы не забыли. Но там — это не здесь. Тогда — не сейчас. Испанская инквизиция была ночным кошмаром, от которого многие из нас все еще не пробудились. И все же мы люди, пришедшие с запада, понентинис, чьи предки испытали огромные лишения, мы объединились, у нас общие воспоминания. Среди нас есть голландцы, немцы, левантийцы. Разве не можем мы чувствовать себя спокойно, когда в каждом благородном семействе есть еврейская наперсница и когда дож не позволяет вашей инквизиции навязывать нам свои проповеди?
Висторини вздохнул.
— Я и сам советовал инквизитору не делать этого, — сказал он. — Говорил, что это только вызовет злобу среди ваших людей, а не научит.
Настоящей причиной было то, что он не хотел демонстрировать несовершенство собственных проповедей верующим, слышавшим Иуду Арийе.
Раввин поднялся.
— Мне пора по делам, падре.
Он поправил шляпу и задумался, не проявит ли неосторожность, высказывая свое мнение. Но решил, что священник имеет право знать о его мыслях.
— Сами знаете, ваша церковь всегда смотрела на эти вопросы не так, как мы, с того самого дня, как появился первый печатный станок. Ваша церковь не хотела, чтобы священные книги попадали в руки обычных людей. Мы придерживаемся другого мнения. Для нас книгоиздание всегда было «аводаг ха кодеш» — святая работа. Некоторые раввины даже уподобляли печатный станок алтарю. Мы называли его «писанием многими перьями» и видели в нем продолжение скрижалей Завета, данных Моисею на горе Синай. Вы, мой добрый отец, сейчас пойдете и напишете приказ сжечь эту книгу. Так требует от вас ваша церковь. Я же ничего не скажу в типографии. Этого требует от меня моя совесть. «Censura praevia» или «censura repressiva» — результат один и тот же. В любом случае книга уничтожена. Лучше уж вы закуете наш разум в оковы, чем мы сами будем вам в этом помогать.
Висторини не нашелся, что ответить, и это привело его в раздражение. Почувствовал тупую боль в виске. Они холодно простились. Иуда Арийе ушел, а священник продолжал сидеть возле канала. Раввин шел и чувствовал, как сильно колотится сердце. Не был ли он слишком откровенен? Если бы кто-то услышал их разговор, ужаснулся бы его дерзости и удивился, почему Висторини не отправил его в камеры Пьомби. Но тот, кто мог подслушать этот разговор, не знал истории, связывавшей этих двоих. Они были друзьями вот уже десять лет. Так почему же, спрашивал себя раввин, так колотится его сердце?
Свернув за угол и скрывшись из поля зрения Висторини, Арийе, задыхаясь, прислонился к стене. В груди ныло. Эта боль мучила его много лет. Он хорошо помнил, как разрывалось от боли его сердце в тот первый день, когда он встретил будущего друга священника, в здании инквизиции. Иуда Арийе пошел на большой риск. Мало кто испытывал желание посетить это заведение, но он сам попросил, чтобы его выслушали. Он говорил более двух часов на высокой латыни. Пытался снять частичный запрет с Талмуда. Книга из двух частей излагала иудейскую мысль со времен изгнания, и лишиться ее — означало лишить ум пищи духовной, что равносильно смерти. Мишну, основную часть труда, он спасти не надеялся, но за вторую часть Талмуда, Гемару, готов был побороться. Гемара представляла собой обмен мнений между раввинами, сборник рассуждений и диспутов. Она, как утверждал Иуда, скорее помогает, чем вредит церкви, поскольку демонстрирует, что даже раввины спорят о разных аспектах еврейского закона. Свидетельство таких разногласий внутри иудаизма церковь может использовать в свою пользу.
Висторини стоял позади кресла инквизитора. Глаза его сузились. Он прекрасно знал еврейские тексты и лично конфисковал и уничтожил огромное количество Талмудов. Знал, что любой сравнительно образованный раввин мог взять Гемару и с ее помощью воссоздать для своих студентов текст преданной анафеме Мишны. Но инквизитор запутался в паутине умных слов раввина. Он позволил евреям сохранить имевшиеся у них книги Талмуда с вычеркнутыми нежелательными пассажами.
Арийе произвел на Висторини сильное впечатление своей ученостью, смелостью и хитростью. Он наблюдал за ним, как за обманщиком-алхимиком. Знаешь, что он показывает трюк, и следишь за ним, чтобы поймать его на обмане, однако сделать этого не удается.
Когда раввин с явным облегчением готовился покинуть зал вместе со спасенными текстами, Висторини подошел к нему близко и прошептал: «Иуда Арийе — Иуда Лев! Тебя стоило назвать Иуда Шуаль — Иуда Лис». Раввин посмотрел священнику в глаза и увидел в них не гнев, а уважение игрока, признавшего поражение от достойного соперника. Когда в следующий раз Арийе пришел в представительство инквизиции, то воспользовался шансом. Он попросил викария представить его Висторини как «рабби Иуда Vulpes[18]».
Висторини понравилось пикироваться с Арийе, он любил словесную игру на трех языках. Священник вел одинокую жизнь. В сиротском доме над ним смеялись из-за его акцента, и потому он стеснялся других мальчиков. В семинарии преградой для завязывания дружеских отношений стали его интересы и способности. Но в Арийе он видел человека равного себе по интеллекту. Ему нравилось то, что Арийе никогда не тратил попусту время, стараясь защитить вульгарную ересь или явные нарушения «Индекса». Иногда Висторини позволял раввину убедить себя. Он не уничтожал, а редактировал, один или два раза давал отсрочку вызывавшему тревогу тексту и писал необходимые слова на первой его странице.
Его интерес к Арийе постепенно заставил побороть антипатию и построил мостик к Гетто. Когда он был семинаристом, многие студенты регулярно туда ходили. Подшучивание над евреями было излюбленным занятием юнцов. Другие ходили туда с целью обратить заблудшие души. Несколько человек с риском исключения из семинарии принимали участие в незаконных развлечениях. Но Висторини претила сама мысль о Гетто. По своей воле он ни за что не вошел бы в эти ворота: ведь там, кроме евреев, он никого бы не обнаружил. От одной лишь мысли ему становилось тошно.