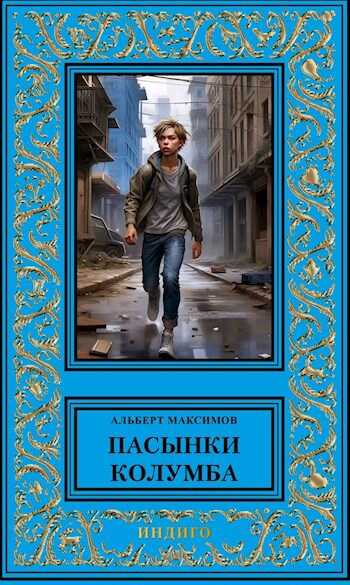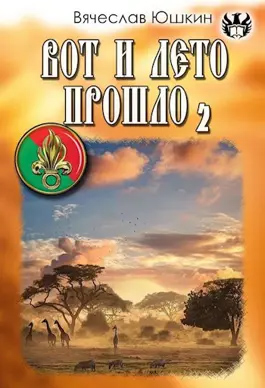чувств: знаем, мол, вашего брата! Всего не отдадите, все равно денежку притырите…
Дверь камеры захлопнулась, ржаво скрежетнул засов. Ландсберг стоял, невидящими глазами глядя на железную койку с соломенным тюфяком, небольшой стол и табурет – всю обстановку камеры для благородных. Стены были оклеены тусклыми, но довольно чистыми обоями. Правда, уже с залохматившимися краями и почти все исписанные и «украшенные» скабрезными надписями и неуклюжими рисунками.
В дверь заскреблись:
– Ваш-бродь, господин офицер!
Ландсберг обернулся и увидел через зарешеченную верхнюю часть двери бледную рожу с живописно подбитым глазом и улыбающимся щербатым ртом.
– Так что я староста здешний, – приглушенно отрапортовалась рожа. – Пантелеем зовут. Может, услужить чего надо? Папироску? Винца добыть, чтоб горе залить, а? Помыть в камере, али прибрать? Все сделаем с удовольствием-с!
– Не надо, любезнейший… Потом, – и не слушая продолжающихся посулов, Ландсберг сел на кровать и обхватил голову руками.
Рожа, погримасничав в оконце, исчезла: даже тупой староста не мог не понимать, что к тюрьме надо привыкнуть…
– Никуда не денешься от Пантелея, – бормотал под нос староста, исчезая во мраке коридора. – Хоть на половину часика, но в наши руки попадешься…
Если бы нашелся человек, который заинтересовался бы мыслями Карла Ландсберга в первые его тюремные часы, то он обнаружил бы, что связных мыслей у него не было. Мелькали какие-то обрывочные образы, несуразные и никак не отвечающие моменту воспоминания… Лишь один вопрос остро долбил в левый висок: Господи, что же дальше-то? Ответа, меж тем, на него не было. И жизни – тоже не было…
А в коридоре эта самая жизнь продолжалась. Где-то бормотали, чем-то двигали и стучали, хлопали с железным лязгом двери. После полудня откуда-то с улицы раздался далекий бой часов. Оживление достигло предела – двери захлопали чаще, послышался чей-то дурной вопль и витиеватая начальственная брань помощника служителя. Потом в камеру из коридора вполз запах кислых щей и подгоревшей каши.
Дверная наружная задвижка завизжала, стукнула, и в двери камеры опять возникла фигура помощник служителя. Видя, что Ландсберг никак не отреагировал на его появление и даже не повернул головы, тюремщик громко откашлялся.
– Господин офицер, время обеда! Арестантам, то есть, обед привезли. Желаете – вам чего-нибудь из трактира принесут?
– Я не хочу, – глухо произнес офицер. – Благодарю покорно!
– Напрасно отказываетесь, молодой человек, – снова откашлялся помощник смотрителя. – Силы телесные надо поддерживать! Одной мыслительностью, извините, сыт не будешь!
Видя, что Ландсберг не расположен к разговорам, тюремщик, потоптавшись у дверей, с разочарованным видом вышел. Признаться, он весьма рассчитывал на то, что молодой организм нового арестанта не удовольствуется одной «мыслительностью», и последует поручение сходить в трактир за обедом. Там тюремщик первым делом спросил бы для себя стаканчик горькой под соленые рыжики, выхлебал бы миску раскаленной куриной лапши, приказал бы трактирщику доверху наполнить плоскую объемистую фляжку, конфискованную в свое время у отсидевшего за буйство попа-расстриги. Все это трактирщик Фрол Назарьевич – не впервой! – укрыл бы в счете за обед арестанту. Иные арестанты, конечно, и возмущались непомерной дороговизной трактирных обедов – а как проверишь-то? То-то… Да и не до проверок арестантам, у них все мысли об одном – как бы выйти из узилища на волю поскорее.
Помощник, вздохнув, быстро отдал старосте распоряжения насчет распределения казенных щей и каши для арестантов и побрел в служительскую.
– Ну, как там новенький? – поинтересовался у него служитель. – Судя по твоей роже, от обеда он отказался?
Помощник махнул рукой.
– Переживают оне, в камере сидючи-то! Напакостят, а потом переживают…
– А ты на его месте песни бы пел? – ехидно поинтересовался служитель. – Ох-ох, грехи наши… Вот что, Федя: дуй-ка ты в трактир, вот деньги. Офицериковы! Счел-то я их при обыске верно, а вот в книгу, «по ошибке», – гм-м! – на два с полтиной рубля меньше занес. Офицерик и подмахнул, не заметил. Учись! Да не задерживайся в трактире, знаю я тебя! Пока ты свою утробу не зальешь, про родное начальство и не вспомнишь. Дуй, говорю! Жалко только, что забирают скоро у нас офицерика этого…
– Куда ж его?
– Из окружного суда принесли бумагу: в Литовский городской тюремный замок. Бумага с утра еще была, да следователь распорядился до вечера подержать господина Ландсберга в кутузке нашей. Чтобы проникся, значит! Нос чтоб дворянский меньше на допросах задирал бы. Ты замок-то наружный на камеру его повесил?
– Дык не запираем благородных под замок же, куда они сбегут-то? И щеколды хватит.
– Ты мне дурочку здесь не строй, Федор! Не ровен час, староста со своими оглоедами ночи не дождется и, пока ты ходишь, «пощиплют» офицерика. Это тебе не пьяный чиновник, которого за буйство законопатили. Не дай Бог! Иди, повесь замок, а потом уж в трактир. Пообедаем, отдохнем чуток, а там и отправим офицерика по принадлежности.
* * *
На Петербургской стороне, в самом конце Большой Никольской слободы, где прежде была губернская канцелярия, заведующая судными и розыскными делами, крепко вросла в землю массивная несуразная громада Литовского тюремного замка. Построенный еще в 1714 году как острог для колодников, по прямому своему назначению замок в те времена почти не использовался и вскоре был перестроен для всесильного Бирона, фаворита Анны Иоановны. После его смерти замок был отдан под жилье какому-то литовскому князю, имя которого петербуржцы в памяти не сохранили. Зато осталось прозвище – Литовский.
После литовского князя мрачный замок какое-то время пустовал – пока кто-то не вспомнил о первоначальном тюремном его предназначении. И снова во двор Литовского замка потянулись подводы, груженые кирпичом, глиной, песком и известью, пригнали сюда каменщиков, кузнецов, плотников и иных мастеровых людей. После реконструкции замок представлял из себя каземат, состоящий из 103 камер, служебных помещений для помощников служителя, приставников, церквушки, караульной для часовых – и совсем неожиданно – приюта для девочек-сирот. Постоянное жительство в Литовском замке из вольных людей имели смотритель, эконом и доктор.
Сюда, к глухим внешним воротам, под вечер в июне 1979 года тускло-зеленый тюремный возок и доставил арестованного прапорщика лейб-гвардии Саперного батальона Карла фон Ландсберга. Конвойный фельдфебель позвонил в колокольчик и рявкнул выглянувшему в маленькое окошко солдату-подчаску:
– Доставлен арестованный с сопроводительною бумагою Окружного суда! Открывай!
– Чего орешь? – бесстрашно буркнул солдат и начал закрывать окошко. – Чичас доложу караульному офицеру.
Через несколько минут загремели засовы и из калитки выглянул дежурный унтер-офицер, махнул рукой: заводи! Из калитки вышли двое подчасков с ружьями, встали по сторонам.
В сопровождении фельдфебеля Ландсберг перешагнул высокий порог и очутился под массивной аркой, отделенной от двери еще одними, теперь уже решетчатыми воротами. Убедившись, что внешняя калитка заперта, унтер отомкнул внутреннюю и завел арестанта и сопровождающих