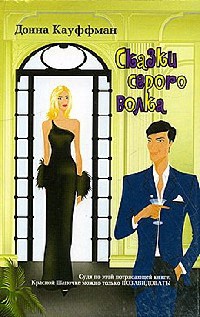ответил, и я уловила еще одну каплю.
– Прости, – сказал он, заходя в комнату. Его голос звучал странно. Я пошла за ним и пришла в смятение, обнаружив, что по его лицу бегут не капельки пота, а слезы.
Я протянула к нему руку, но он отпрянул.
– Что случилось?
– Это… все, – махнул он рукой широким жестом, охватывающим наши жизни. – Я этого не заслуживаю.
– О чем это ты? Разве ты не счастлив?
Он повернулся ко мне, подхватил меня на руки и прижался ко мне губами в отчаянном поцелуе.
– О боже, да, – отстраняясь, ответил он, – я тебя люблю. Но я этого не заслуживаю. Я не имею права на такое счастье.
Он отпустил меня и вернулся на балкон. Его лицо исказилось от боли, тень которой я заметила, еще когда он рассказал, что не может иметь детей. Он оперся о перила. Это было единственное место, где он мог побыть один, поэтому я поняла намек и легла в постель.
Наверное, я заснула, потому что, когда почувствовала его руку, вытиравшую пот у меня со спины, ночной воздух был тих, пение на берегу тоже смолкло. Я открыла глаза и увидела его печальное лицо. Раньше в таком настроении я его никогда не видела.
Он меня поцеловал.
– Ты никогда не спрашивала меня, почему я не могу иметь детей, – сказал он так тихо, что я напрягла слух.
– Нет, – ответила я и взяла его за руку. – Ты сам должен решить когда.
– Я хочу рассказать тебе сейчас, а то никогда не смогу.
– Потом, – ответила я, притягивая его к себе.
Забавно, но поцелуи и любовные утехи – это отдельный особый язык.
Одни и те же действия, движения языка, прикосновения, слияние бывают тихими, любящими, нежными, злыми и даже насильственными. Большую часть времени, проведенного вместе, Шарль и я словно испытывали отчаянную необходимость слиться воедино, стать одним целым. Но те же самые жесты и движения выражают сочувствие, взаимопонимание и нежность, словно каждое прикосновение, ласка – это бальзам, мазь, заживляющая невыразимые раны.
Впоследствии он лежал рядом со мной на кровати, уставившись в потолок, я прижалась к нему, положив руку ему на грудь, он обнимал меня, и по моему животу, смешиваясь с вездесущим потом, стекала сперма.
– Моя фамилия Дюмаре – французская, – сообщил он, когда я собралась спать. – По-твоему, я француз?
– Да, – удивленно ответила я. – Конечно.
– Вот и я так думал, – он помолчал. – И на самом деле отец мой – француз. Мать думала, что она француженка. Но в 1940 году, когда немцы вошли во Францию, мы с матерью перестали быть французами. Мы сразу стали евреями.
– Ох.
Я протянула руку к пенису. Он был мягкий и липкий, а в конце гладкий и открытый.
– Я подозревала.
У меня был не слишком богатый опыт, и, когда я отдавалась Томасу, в спальне было темно, однако я заметила разницу и приняла ее вместе с отличием между худощавым долговязым мальчишкой с гладкой кожей и моим мускулистым мужем. Но теперь все стало понятно.
– Тебе делали обрезание?
– Да. Даже если я сам об этом никогда не задумывался, если я считал себя французским мальчишкой, то для нацистов это было словно клеймо на лбу.
Он долго смотрел в потолок, и я прижалась губами к его руке.
Я никогда не была знакома с евреем до встречи с профессором, а живя с ним, поняла, что он просто обычный человек. Я знала о гибели его семьи и о его горе, то есть понимала, что такое Холокост.
Я с ужасом представляла, что сейчас услышу.
– Когда немцы вошли в Париж, мы уехали на юг, но режим Виши был ничуть не лучше. Мы останавливались у друзей, все время переезжали в полном отчаянии. Отец чего только не пробовал, но он не мог помочь нам исчезнуть. Зато в этом преуспели власти. Нас арестовали. Отцовские усилия были напрасны, и нас – мать, сестру и мою жену с сыном – в канун Рождества 1942 года увезли в Дранси, а потом, в январе 1943-го, в Освенцим.
– Ты был женат? У тебя была семья?
Тоска по Лорину была такой сильной, но он, по крайней мере, был жив.
Шарль с трудом сдерживался, чтобы не зарыдать. Он смотрел на работающий вентилятор на потолке и закусил губу, а по щекам его ручейками сбегала соленая жидкость. Я поцеловала его в лоб и взяла за руку.
– Что с ними произошло?
– Мать, мою жену Франсуазу и Луи, ему исполнилось четырнадцать месяцев, отвели в сторону, налево.
Он закрыл глаза.
– Нас с сестрой оставили на месте. Лево, право. Смерть, жизнь. Мать, Франсуаза и Луи через несколько часов погибли. Мы даже не попрощались.
Он отвернулся, и я уткнулась носом ему в шею.
– А сестра? – спросила я, заранее зная ответ, но ужасаясь.
– Ей пришлось совсем плохо. Нас разлучили, я припасал для нее еду. Но этого было мало. Когда нас освободили, она была очень худой и через неделю умерла от дизентерии.
Я понимала его с трудом. Я сама не попрощалась со своей семьей. Они меня всегда огорчали, я не чувствовала их любви. Он всегда вспоминал о родителях с любовью и нежностью. Он никогда не говорил о жене и сыне, но я не сердилась, понимая, что эту боль он таил в себе и ничто его не утешит.
– Мне очень жаль, – прошептала я.
Мы лежали, не шевелясь. Я знала, что рассказ еще не окончен, но не представляла, чего ожидать.
Теперь все по-другому, ma chère, у нас появились книги, фильмы, телесериалы и документальные фильмы о Холокосте. А тогда выжившие и жертвы еще не обрели голоса.
Шарль вздохнул.
– Я стараюсь не винить себя в том, что остался жив. Мне тяжело.
Его рука упала рядом со мной на матрац, и он несколько раз глубоко вздохнул.
– Меня погнали направо и, зная, что я химик, отправили работать на химический завод IG Farben.
– Что вас заставляли делать?
– В основном производили резину. Потом меня перевели в лаборатории. Компания Bayer покупала узников для испытания на них различных химикатов. Роза… – Его голос дрогнул. – Я видел такое, чему до сих пор не могу поверить. Меня пару раз заставляли готовить смеси для десятого блока, где они проводили медицинские опыты. Я голодал, меня били, жил в грязи, болел, страдал от истощения – все это было ничто. Я выжил. Но я видел, что люди делали с другими людьми, с женщинами и детьми. И этот ужас трудно даже представить. Знаешь Босха,