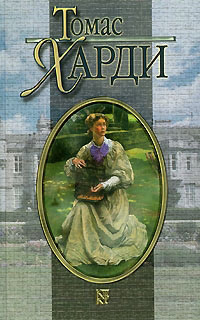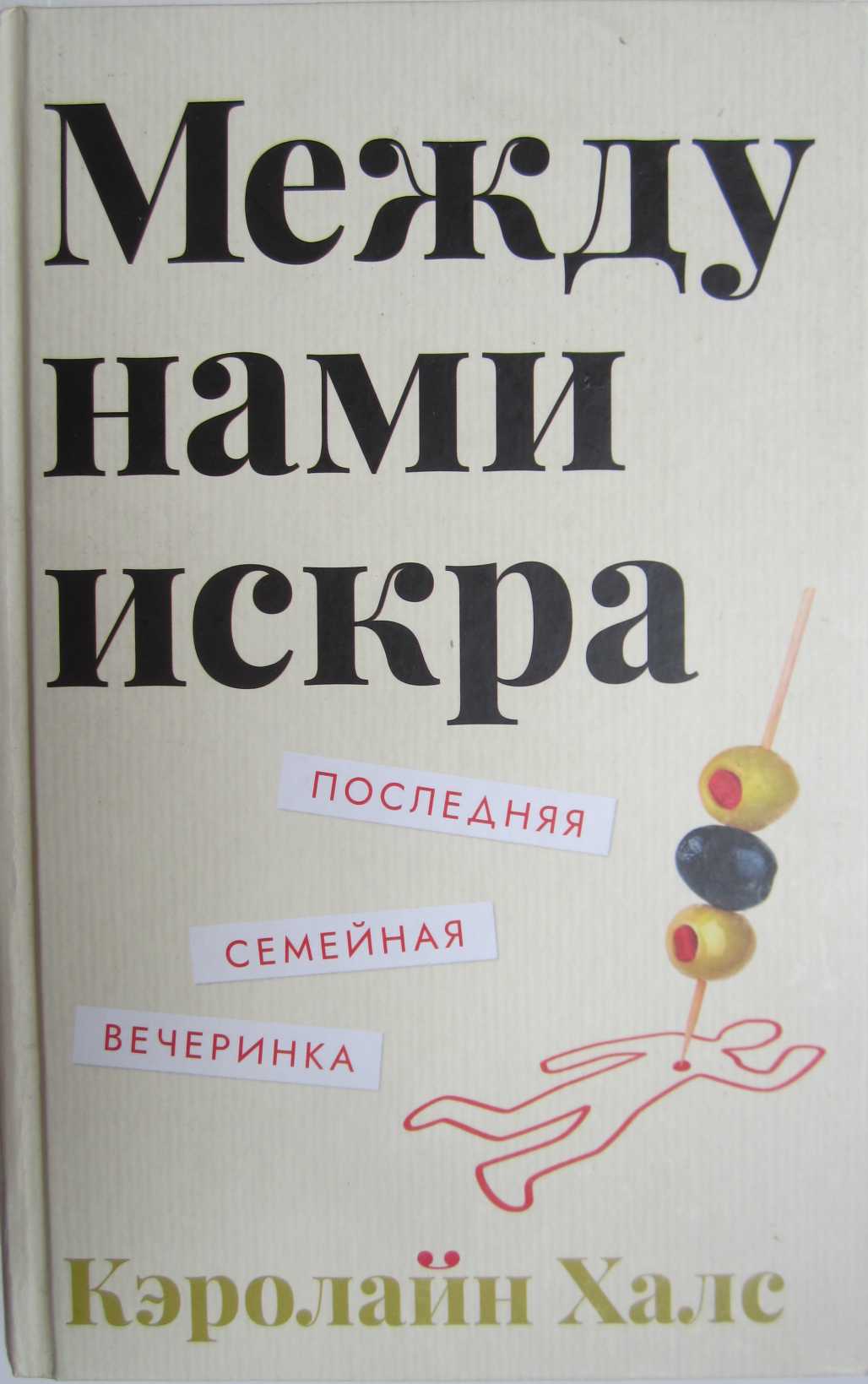заматерился. Полез за второй бутылкой, загремел бокалами.
– Слушай, ты извини, честное слово. У нас руководство сменилось, по каждой мелочи гоняют. Сам понимаешь.
– По мелочи, говоришь.
– Ты понял. Ты прости, я загнался.
– Где она сейчас?
– Пришла информация от питерских коллег. Мы проверяем. Ничего еще не понятно… то есть мне все понятно, я к тому, что…
– Ладно, – говорю, – мне что, в Питер ехать?
– Сам решай. Тут я не советчик. Будешь?
Он нарезал лимон, и пить стало легче. После третьей меня развезло, и уэсбэшник тоже раскраснелся от высокого градуса.
– Понимаешь, дружище, ты, главное, выслушай. Ты меня выслушаешь?
– Да.
– Ты меня выслушай, пожалуйста, я тебе все расскажу. Ты просто пойми, я ее люблю. Точнее, любил. Нет, теперь люблю еще больше. Вот она уехала, понимаешь, просто так. Проснулась утром, собрала сумку и уехала. Даже вещи все почти оставила. Я за ней, а она говорит, оставь, у нас ничего не получится. Я про Гришу, она молчит. Сам разбирайся, вроде того. А мне что делать? Я спрашиваю, почему? Она говорит, устала, ошиблась с выбором. Хочет жить по-другому. Понимаешь? И ладно бы мы ругались, ну, ладно была бы причина. А я проморгал все эти причины. Я даже не заметил, когда она там ошиблась с этим долбаным выбором.
– Так не бывает.
– Оказывается, бывает. Представляешь, оказывается, бывает. Ну, вот и все. Я, конечно, мониторил, куда она поехала. Взяла билет в Сочи. Даже ездил туда, искал через местных. Никто ее не видел. В Сочи ли она поехала. Она же умная, на самом деле. Ты вот говоришь, Питер. Какой еще Питер…
– Вроде так, вроде Питер.
– Не важно. Все равно теперь. Я только тебе могу сказать. Я ее всегда буду любить. Мне теперь даже легче стало, потому что некого ждать. Не приедет наша мама. Все. Это конец.
Звонил рабочий телефон, но управленец не слышал, а пил монотонно и долго, не сводя с меня глаз.
– Сочувствую, конечно.
– Ты мне вот скажи. Ты хоть раз в жизни любил? Нет, ты подожди. Ты скажи, по-настоящему. Любил по-настоящему?
– Не любил, – признался уэсбэшник. И не собираюсь. Любовь – это так себе, для неудачников.
Он осекся, заерзав на стуле.
– Ты извини, я не в этом смысле. Мне кажется просто, что не стоит никого любить. Так проще живется. А проблем без того хватает. Не мне тебе рассказывать.
Как всегда без стука, зашел Гнусов.
– Ну как? – спросил он уэсбэшника, и тот кивнул.
Я смотрел на Леху и так хотел, чтобы тот заговорил со мной. Он же всегда что-то несет. Пусть скажет, что Катя жива, что это неправда.
– Собирайся, поедем, – сказал он.
Пока спускался, оступился на лестницах, и Гнусов, хватив за руку, удержал мою пьяную жизнь.
Служебная «Приора» светит здоровенными фарами. Свищет дождь в глухой ночи, бьет в лицо. Небо затянуто гуталиновой мембраной с проседью тучевых разводов. Мы куда-то едем. Я не спрашиваю, куда. Лишь бы откуда.
– Я бы сказал, крепись. Но ты уже год крепишься. Забей, короче, – говорит равнодушный Гнусов.
– Решил помириться?
Не отвечает.
Звоню Оксане. В мужском голосе оператора я почему-то узнаю отца.
«Обслуживание абонента временно недоступно».
«Терпи, сынок».
– Расскажи мне про Катю. Ты уже пытался.
– Опять начинаешь?
– Нет, ты расскажи. Сейчас-то ничего не имеет смысла.
Звонят с неизвестного номера. Не успеваю ответить. Набираю, и снова голос, теперь женский, и будто мать, заикаясь и плача, убеждает, что обслуживание действительно остановлено, жизнь кончена, все прошло.
Мы гоним домой. Гнусов давит на педаль, разрывая в щепки зачерствевшую ночь. Нет ничего, кроме свободы. Ничего, кроме любви. И что будет дальше, не важно…
…А дальше будет плакать Гриша, повторяя до знакомой тоски: «Я думал, ты не вернешься». Будет держаться в стороне Оксана, наблюдая, как прячу сына в своих ручищах. Будет страшно и холодно от блеклого равнодушия старой луны. И будет казаться, что с высоты наблюдает отец, пуская от печали слезливый осенний дождь.
8
Есть что-то особенное, когда уличная шпана, которую стараешься не замечать, здоровается с тобой, заводит разговор. Встретишь у подъезда местного забулдыгу, стреляющего мелочь на опохмел, – засуетится, пригладит растрепанные пряди сальных волос, прокашляет зачем-то в руку и на выдохе, слегка растерянно, скажет:
– Все в порядке, начальник, не нарушаю.
Он попросит у меня сигарету, так, мол, и так, курить хочется, а нечего. Я угощу, конечно, и, махнув рукой, вроде – все нормально, оставлю несчастного корифея уголовного мира в покое.
Тот прокричит вдогонку сиплым своим, оставленным на попойках голосом: «Честное слово, не нарушаю», а я подумаю, дай бог, если так. Что с него взять, свое получил, может, и впрямь одумался.
– Товарищ начальник, – кричит, – товарищ начальник, – а зажигалочки не найдется, спички хоть?
Он догоняет меня, смотрит глубокими, почему-то добрыми глазами, вот-вот утонешь в этом его взгляде – так он умеет казаться порядочным, что, не зная жулика, все его ходки, решишь – бедный, бедный человек, спившийся, затравленный неудачник.
Я чиркаю зажигалкой, и, довольный, скоро он расправляется с моей сигаретой.
– Товарищ начальник, не нарушаю, – в который раз повторяет жулик.
– Молодец, – говорю, – чем живешь?
– Да чем… чем придется: тут подкручу, там подкрашу. Кран поставлю, замок поменяю.
– Да уж, по замкам ты мастер.
– Ну, – смущается жулик, – есть такое дело. Но я не нарушаю, век сидеть, не нарушаю.
Ухожу, нет желания говорить с ним, а жулик все гонит и гонит за мной.
– А у вас как дела, – спрашивает, – все работаете?
– Работаю.
– Вы, это, если что, ко мне обращайтесь, я ж тут всю шантрапу знаю, всех фраерков вижу.
– Дети у нас пропали. Семь фактов за две недели. Слышал что-нибудь?
– Не, это не моя тема.
Не будь он жульбаном, Васей Мирным с пятью судимостями, я бы забухал с ним, честное слово. Не будь я ментом, Вася тоже предложил бы выпить. Он протянул костлявую руку с россыпью колотых перстней на пальцах и сказал: «Бывайте».
Ну, бывай, Вася.
– А это ваш, да? – спрашивает, показывая на Гришу.
– Наш, – соглашаюсь и кричу: – Гриша, давай быстрее.
Сын издали бросает пакет в мусорный контейнер, и часть отходов валится наземь. Бежит ко мне изо всех сил. Того гляди, развяжется шнурок, споткнется – упадет. Надо бы сказать: убери ошметки, но мы опаздываем в садик, и Грише еще предстоит понять, что такое труд и порядок.
– Похож, – заключает Вася. – Будущий опер.
– Кто это, папа? – спрашивает Гриша, оборачиваясь.
– Старый знакомый,