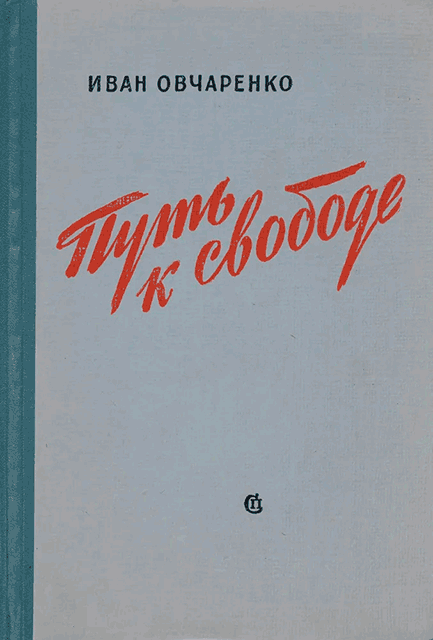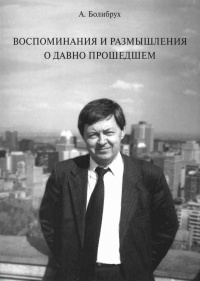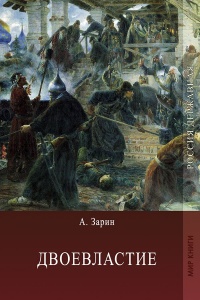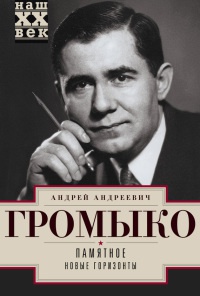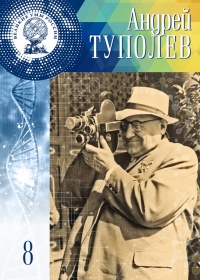весь день приходили, уходили, ели, пили, танцевали. Нанесли Оле подарков столько, что в беженское время хватило бы на двадцать пять барышень, включая родителей.
И, вот, вспоминаю свою беседу с кузиной в тот незабываемый день.
– Оля! – с восторгом сказал я, растягивая рукой воротник гимназического мундирчика, который нещадно давил мне шею. – Как, должно быть, ты счастлива! Сколько конфет поднесли!
– Ну что конфеты! – пренебрежительно проговорила она. – Разве в конфетах счастье?
– Конечно, не в конфетах, Оля, но там, ведь, не только одни леденцы! Там есть шоколадные. Там есть и засахаренные. Николай Федорович принес большую коробку тянучек… Ты, если захочешь, можешь наесться так, что живот заболит, Оля!
– Какой глупый малыш! – весело рассмеялась кузина, обмахиваясь платочком и победоносно оглядываясь по сторонам. – Для детей, может быть, конфеты и имеют значение. Но когда человек взрослый и совершеннолетний…
– Хорошо, а цветы? – не унимался я, желая передать Оле свое восхищение праздником. – Разве мало цветов? Петр Сергеевич принес гвоздики. Мария Михайловна принесла розы. В дядином кабинете так воняет резедой, лилиями и другими цветами, что дышать невозможно.
– Я, конечно, люблю цветы, – снисходительно заметила Оля. – Но что, в конце концов, цветы и конфеты? Разве ты не видишь, чурбан, самого главного? Какое платье я получила в подарок?
– Это? А что?
– На целых четверть аршина длиннее, чем раньше! Совсем, как у взрослых.
* * *
На днях был приглашен я на дачу к знакомым на семейный праздник.
Их дочери Оле исполнилось шестнадцать лет, и отныне она уже не Оля, а Ольга Константиновна.
Знакомые мои, хотя люди не очень консервативные, но и не чересчур либеральные. О мелкой земской единице забыли, о Чернышевском не вспоминают, что такое прогресс – сами постепенно узнают из личного ознакомления с беженской жизнью.
Утром, как оказывается, мама поцеловала Олю, поздравила, подарила новое платье, сказала:
– Носи осторожнее, пожалуйста!
А папа принес из кабинета новую книгу, любезно похлопал по обложке, проговорил:
– Вот тебе, Олечка, курс куроводства. Чтобы наши куры не дохли.
Торжество в общем вышло на славу. Целый день гости приходили, уходили, ели, пили, пели, танцевали. Было приятно видеть, как виновница торжества, сияя счастьем, носилась взад и вперед, делала пируэты, реверансы, угощала, занимала, хлопотала…
– Ну, что, Ольга Константиновна? – улучив время, когда «рожденница» подошла к моему месту, спросил я. – Вы довольны подарками?
– А что?
– Да посмотрите, конфет сколько! Есть не только леденцы. Есть засахаренные, шоколадные…
– Ну, вот! Что такое конфеты, когда человеку стукнуло шестнадцать?
– Не говорите, Ольга Константиновна. В шестнадцать лет конфеты тоже доставляют удовольствие, в особенности, если не самому покупать. А, кроме того, почему вы сказали: стукнуло? Это только в нашем возрасте стукает. Ну, а цветов тоже масса. Смотрите, сколько цветов! Я думаю, франков на сто, если не больше.
– Да, я люблю цветы… – снисходительно проговорила Ольга Константиновна, обмахиваясь платочком и победоносно оглядываясь по сторонам. – Они вообще… пахнут. Но вы, к сожалению, не заметили самого главного.
– А что?
– Моего платья. На видите? Не целых десять сантиметров короче, чем раньше! Совсем как у взрослых.
«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», 14 июля 1928, № 1138, с. 2.
Чужой лес
Сижу в Медонском лесу. Давно облюбовал я это чудесное местечко, среди берез и кленов. Сзади, по склону, живописно вьется тропинка, сдавленная цепкой ежевикой. Впереди – заросшая травой площадка с расходящимися в разные стороны дорожками. Зеленой стеной стоит вокруг скамьи молодая поросль, играя на солнце листвой. И какая-то птица в глубине леса поет, настойчиво заучивая первые пять нот из партии Зибеля[128].
«Расскажите вы», – ясно слышится. А кому – не хочет сказать. Только я и так понимаю. Конечно, «ей». За это говорит все: и горячее солнце, и ясное небо, и такой милый ласкающий ветер…
Сижу, смотрю на березы и, как всегда, в душе – радость и грусть. Так много воспоминаний будят родные белые пятна, окруженные нежностью тонких ветвей. И так больно чувствуется, что все-таки это не то; что все это чужое вокруг – и земля, и дороги, и небо, и птицы…
Вот, вдали, из-за поворота показалась группа французов. Целая семья… Дама, двое детей. Девочку мать ведет за руку; мальчуган, вооруженный деревянной саблей, кидается из стороны в сторону, с безумием Дон-Кихота накидывается на стволы старых лип.
Счастливцы! Они у себя. Дома. Это все – их. На лице у матери – установившаяся спокойная радость. У детей – уверенные движения будущих хозяев страны. Опьянены годами, родным солнцем, родным воздухом…
Дама останавливается на площадке, нерешительно смотрит назад.
– Ау! – сложив ладони у губ, громко восклицает она.
– Го-го-го! – отвечает откуда-то громовой раскатистый голос.
– Ау! Ау!
– Го-го-го!
Эхо ответило «го»… Птица с партией Зибеля смолкла. Воздух замер, погрузившись после резких сотрясений в истомную тишь. И, вот, вдали, на дорогу ввалилась грузная фигура со шляпой на затылке, с развалистым самодовольством в походке.
Счастливцы! Как непринужденны! Что значит – дома. У себя. На своей собственной родине.
…Он подходит, запыхавшись, сияет мокрым лицом. В одной руке большой сверток в газетной бумаге, длинный хлеб. В другой – бутылка, в которой булькает молоко.
– Сядем на скамью, что ли? – спрашивает он громко по-русски, подозрительно взглянув на меня.
– Там уже кто-то сидит.
– А что ж такого. Пусть подвинется. Не его здесь скамейка. Володька! Пойди сюда! Ишь, поганец. Ломает кусты. Аня, садись. Ляля! Хочешь молочка? А? Володька, пойди сюда! Тебе говорю?
Они садятся. Аня, Володя, Ляля и он. Он ближе всех. Настолько близко, что каждый очередной поворот его могучей спины грозит смахнуть меня со скамьи.
– Мама, а у нашей соседки родился ребеночек! – говорит почему-то Ляля.
– Ну, и отлично. Пей молоко. Ты кого это встретил, Сережа? Топорчикова?
– Нет, не Топорчикова. Ты не знаешь. Полковник де-Гурнель. Удивительная штука, все-таки. В последний рай в Севастополе виделись, потом потеряли друг друга из вида. И теперь, на тебе, неожиданно в Медонском лесу повстречались.
– Де-Гурнель? Русский?
– Русский, конечно. Симпатяга. А судьба у человека, действительно, странная. Володька! Оставь хлеб в покое! Не подбрасывай! Предки были французскими эмигрантами, во время революции бежали в Россию. А теперь, вот, потомок принужден от революции обратно бежать. Беженцем в своей собственной родной стране оказался. Здорово? Володька! Что я тебе говорю?
– Мама, а почему у соседки родился ребеночек? – не унимается Ляля.
– Так надо, деточка. Пей.
– А почему надо? Консьержка говорит, что соседка купила ребенка на Марше о Пюс[129], – хитро замечает Володька. – Только врет, дура. На Марше о Пюс продаются старые вещи, а ребенок совсем молодой… Наверно, просто в рассрочку купили.
Чтобы не мешать семейной идиллии, я встаю, вежливо приподнимаю шляпу и ухожу вверх, вдоль по тропинке.
– Слава Богу, ушел, – слышу облегченный вздох сзади. – И откуда такая масса французов в лесу? Не продохнешь.
Здесь, вдали от скамьи, на холме, среди огромных кустов, завитых плетьми ежевики, тихо, спокойно. Бесшумно продвигаюсь по мягкой траве, опускаюсь под