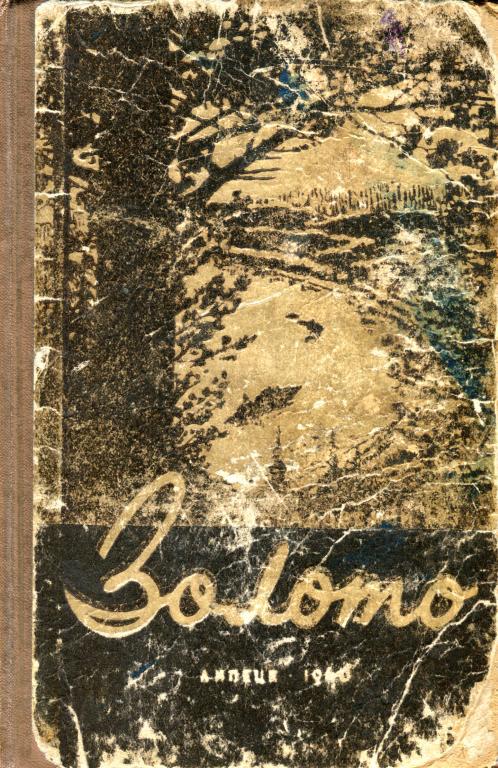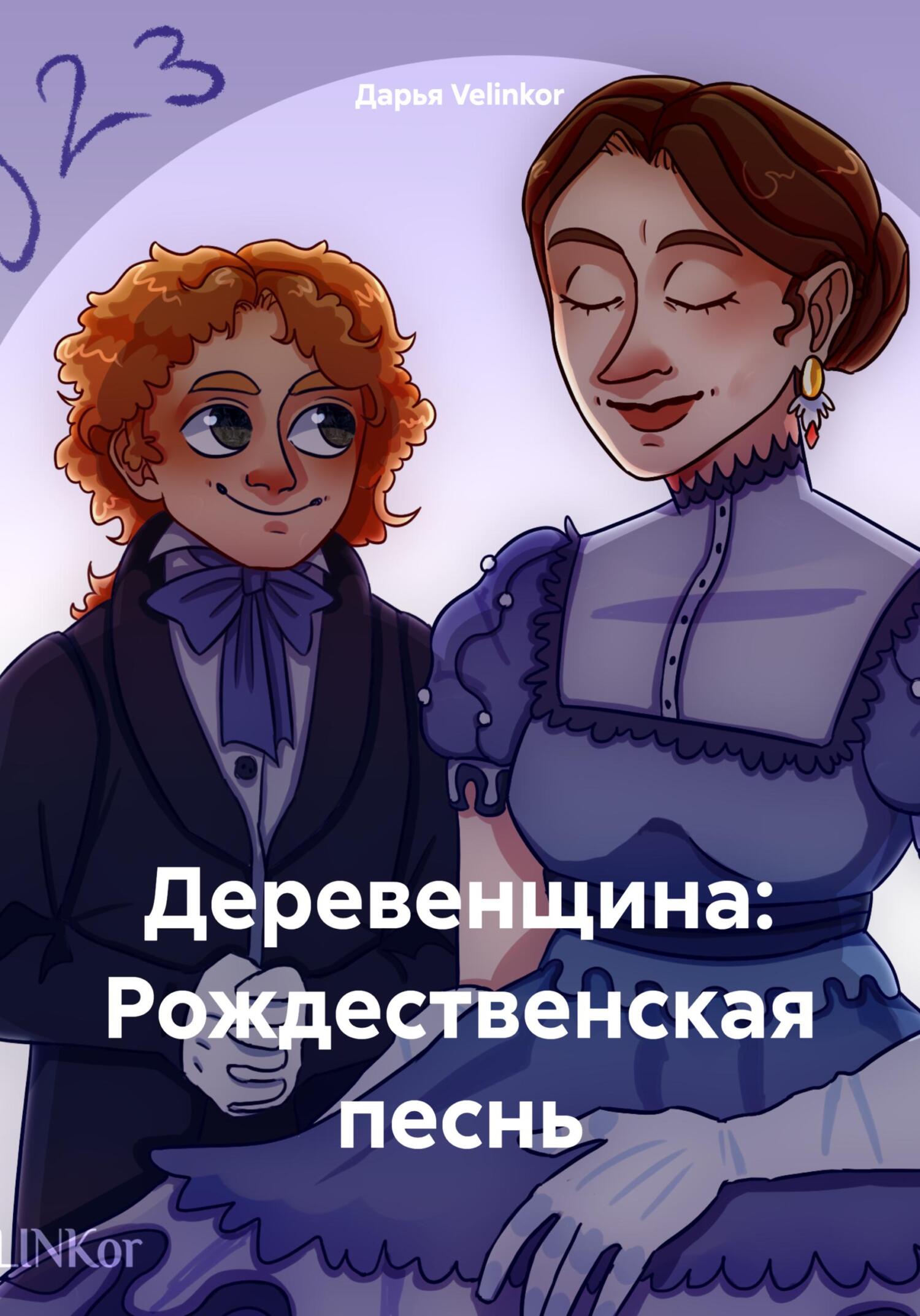у нее и помогала ей укладывать вещи!
С Бабеттой трудно было разговаривать в эти дни. На гору явилась Долли Нюслейн, чтобы поговорить с Генсхеном. Генсхен, по-видимому, был сердит на нее. Она принесла ему пачку сигарет. Долли заглянула к Бабетте на кухню и, разумеется, тотчас же принялась болтать о Христине.
— Ах, Бабетта, ты, конечно, давно уже знаешь? — спросила она.
— Что? — закричала Бабетта, моментально приходя в ярость.
Долли пришла в незлобивом настроении, испытывая лишь легкое беспокойство в своем влюбленном сердечке, но ее обидело, что Бабетта сразу так свирепо набросилась на нее. Она разразилась смехом.
— Ты, должно быть, плохо выспалась, Бабетта! — насмешливо воскликнула она. — Да ты просто смешишь меня! Она сбежала тайком, она, которая всегда морщила нос, если одна из нас осмеливалась глаза на кого-нибудь поднять! А теперь она сама попалась!
— Как это попалась? — Бабетта побагровела от злости.
— Ну, я могу тебе сказать, с кем она удрала, как мы предполагаем…
— С кем? Скажи мне, если знаешь!
— А тебе бы очень хотелось узнать? Не правда ли? Тебе это пришлось бы очень кстати? Счастливо оставаться!
— Я бы на твоем месте не важничала так, Долли! — завизжала ей вдогонку Бабетта, высовывая голову за дверь. — Ты ходишь сюда, чтобы беседовать с одним молодым человеком, и суешь ему каждый раз сигареты! Постыдилась бы, вместо того чтобы языком трепать!
Теперь рассвирепела Долли. Покраснев как рак, она остановилась.
— Посмотрите-ка на нее! — закричала она, вызывающе подбоченившись. — Ты бы лучше не задавалась, Бабетта! Все знают, что у тебя есть в Рауне двадцатилетняя дочь! Тебя и Шпан-то выгнал из-за этого!
— Ах ты стерва! — Бабетта в ярости сплюнула.
Это был ловкий удар. Бабетта отступила и, шатаясь, прошла через кухню. Затем остановилась, бледная и расстроенная. В Рауне! Откуда они знают? И то, что Альвине двадцать лет! Откуда они знают?
24
Наконец в Борне перестали говорить об этом. Жизнь опять пошла своим чередом. Ветер изменил направление, и холода возобновились. Личинки майского жука зарылись почти на метр в землю, Рыжий говорил, что это предвещает долгую, суровую зиму, а ему можно было верить.
Хельзее был по-прежнему погребен под снегом, острая колокольня сверкала, как ледяная сосулька. Несколько дней тому назад, во время оттепели, озеро выделялось иссиня-черным пятном среди белой равнины. Оно было тогда похоже на мрамор, а теперь стало снова белоснежным, как поля, и очертания его берегов можно было распознать лишь по ржавой кайме сухого тростника, поваленного ветром.
Оставалось только работать — дни, слава богу, начали удлиняться. Герман и Антон сколачивали леса для пристройки к сараю.
— Теперь тебе уж и перекусить некогда стало, Герман! — с упреком сказала Бабетта.
Герман работал почти без передышки, замкнутый и молчаливый. Лишь когда Бабетта приближалась к нему, он начинал тихонько насвистывать. Пусть только она не думает, что он тоскует!
Генсхен почти ежедневно бывал в городе. Вечера не прекращались: певцы, стрелки, гимнасты, пожарные — все устраивали свои вечера. Он рассказывал истории и сплетни; прямо удивительно, что делается в этом сонном, словно вымершем городке. О Христине Генсхен не заикался ни единым словом, хотя и узнавал в салоне Нюслейна все, о чем сплетничали в городке. У Германа не раз было искушение расспросить его. Он старался не слушать, когда Бабетта иной раз заводила речь о Шпане и Христине. И все же стоило ему услышать имя Христины, как он ощущал острую боль в сердце, словно в него вонзали большой раскаленный нож.
— Никогда и ни за что не поверю, что Христина сделала что-нибудь дурное, — говорила Бабетта. — Никогда и ни за что, я ведъ ее знаю! У нее доброе, гордое сердце. Но почему она не пишет? Старик умрет от огорчения!
Герман ответил спустя много времени и таким изменившимся, равнодушным голосом, что у Бабетты захватило дыхание:
— Должно быть, у нее есть на то причины, Бабетта! Бабетта пристально посмотрела Герману в лицо. А она-то все время думала, что он тоскует, и жалела его! Нет, оказывается! Он произнес это таким равнодушным и скучающим тоном, словно ему хотелось бы вообще больше ничего не слышать о Христине. Ладно, она может и помолчать, раз ему этого хочется!
У них в хозяйстве произошло событие: крольчиха Антона принесла как-то ночью восемь крольчат. Мать надергала из своей шубки шелковистого пуха, и малыши лежали удобно, словно на вате, прикрытые пушистой паутиной. Антон был вне себя от гордости. Восемь штук! Можно было подумать, что это уже взрослые кролики, весом по крайней мере фунтов в шесть каждый, а не жалкие, крошечные комочки, похожие на крысят.
— Наступил перелом! — хвастался Антон. — Теперь нужде пришел конец! Они растут очень быстро!
Все чувствовали, что и в самом деле нужно расти крольчатам поскорее, чтобы в Борне наступил перелом. Щеки у всех ввалились и стали землистыми. Если бы Генсхен так о них не заботился, они давно свалились бы от голода.
А Рыжий, оказывается, был настоящий чародей! В его ящиках для рассады уже затеплилась жизнь. Они стояли то в темноте, то на свету, временами появлялись в прохладном сарае» затем опять возвращались в теплую кухню. Он ежедневно возился с ними, и наконец некоторые из ящиков покрылись великолепной, густой зеленью, на которую они поглядывали с тайной нежностью. Рыжий, когда его хвалили, становился багровым от гордости. Ну, теперь уже весна действительно не за горами!
Но зима не сдавалась, и с востока все еще дул ледяной ветер. Колодец опять покрылся толстой броней льда, и Рыжий снова стал щеголять в полярном снаряжении, из которого был виден один только нос.
Однажды ночью ветер был так силен, что Герман дрожал от холода в своей жалкой постели. Печь остыла; он встал, развел огонь из щепок и хвороста и придвинулся к печке вплотную, чтобы согреться. Усталый, с опустошенным сердцем, смотрел он на огонь. Вдруг он испугался: среди пламени он увидел лицо Христины, окруженное искрами.
Это было лицо Христины, каким он его видел год тому назад, в последний день своей побывки. Она приходила к Бабетте, и он провожал ее обратно в город. В тот вечер прошла сильная гроза, с мокрых верхушек лип, стоявших вдоль дороги, стекали капли, сыпались на них дождем. Но над темными деревьями сияли луна и яркие звезды. Лицо Христины было озарено трепетным лунным светом, дождевые капли, как роса, блистали на ее волосах и щеках, глубокие глаза искрились. Это было видение, сотканное из росы, звезд и искр; оно было освещено луной. Такой он видел ее