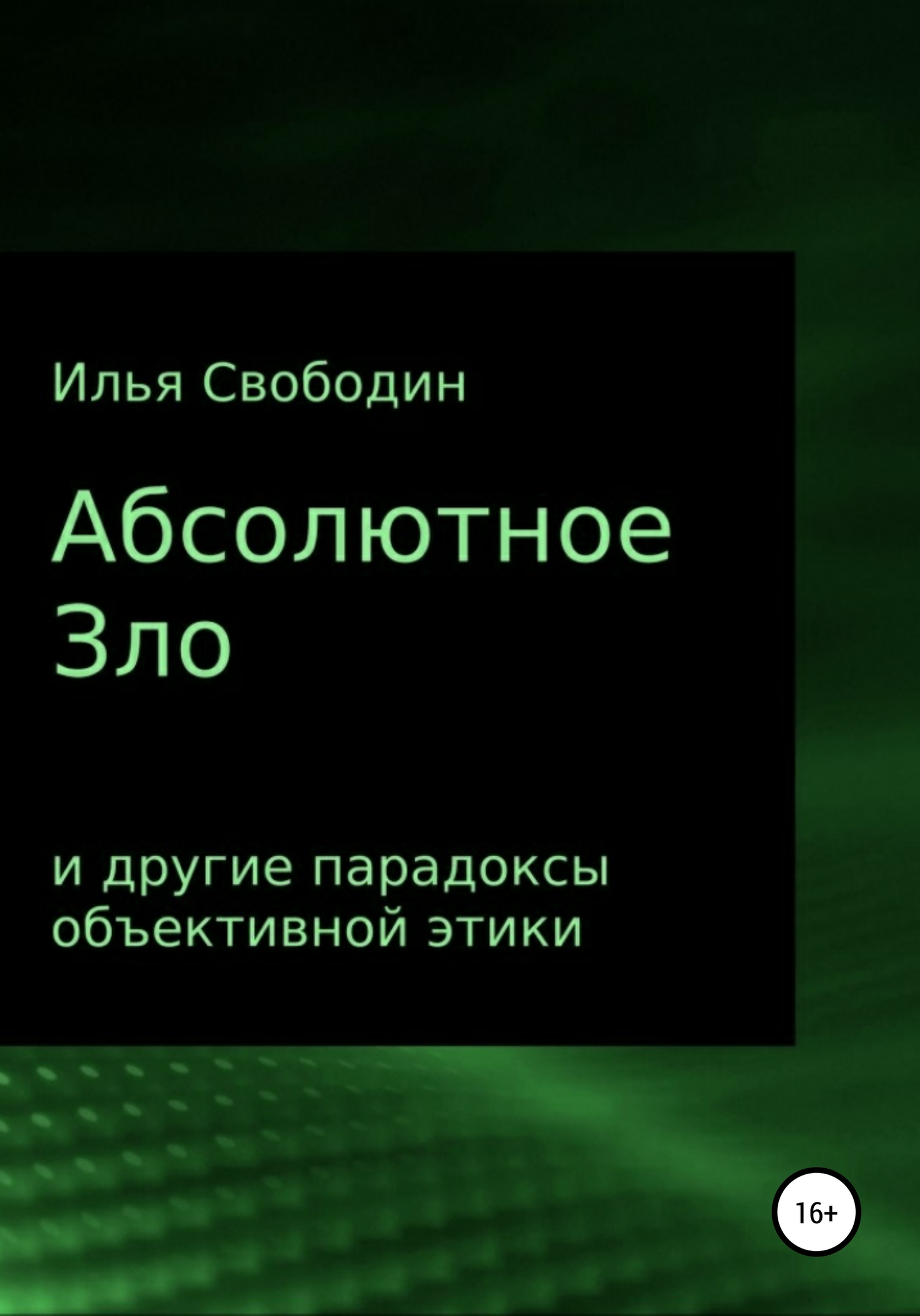новейших немецких писак по философии: liberum arbitrium indifferentiae под именем «нравственной свободы» является у них делом решенным, как будто все вышеуказанные великие люди никогда и не были на свете. Они объявляют свободу воли, данной в непосредственном самосознании; это утверждает ее на столь непоколебимом основании, что все аргументы против нее могут быть не чем иным, кроме как софизмом. Эта высокая уверенность возникает просто оттого, что простаки совсем не знают, что такое представляет собою и означает свобода воли: в своей невинности они понимают под ней не что иное, как анализированную нами выше, во втором отделе, власть воли над членами тела, в которой ведь, конечно, никогда не сомневался никакой разумный человек и выражением для которой именно и служит пресловутое «Я могу делать то, что я хочу». В этом заключается свобода воли, вполне добросовестно мнят они, нажимая на то, что она стоит вне всякого сомнения. Таково то состояние невинности, в какое после стольких великих предшественников вернула мыслящий немецкий ум гегелевская философия. Людям этого пошиба можно, конечно, крикнуть:
Seid ihr nicht wie die Weiber, die bestandig
Zuruck nur kommen auf ihr erstes Wort,
Wenn man Vernunft gesprochen stundenlang?[118]
Впрочем, быть может, у иных из них тайком действуют отмеченные выше теологические мотивы.
А взять современных писателей в области медицины, зоологии, истории, политики и беллетристики: с какой чрезвычайной готовностью пользуются они всяким случаем, чтобы упомянуть о «свободе человека», о «нравственной свободе»! Они почитают себя от этого большими умниками. В объяснение этой свободы они, конечно, не вдаются; но если бы можно было их проэкзаменовать, то оказалось бы, что они либо совсем ничего под ней не подразумевают, или же имеют в виду нашу старую почтенную хорошо известную liberum arbitrium indifferentiae, каким бы высоким стилем они ее ни выражали: в несостоятельности этого понятия никогда, конечно, не удастся убедить большую публику, но ученым следовало бы воздержаться от столь невинных о нем разговоров. Поэтому-то среди них и попадаются малодушные, которые представляют очень забавное зрелище, так как не решаются уже повествовать о свободе воли, а чтобы поискуснее выйти из затруднения, говорят вместо того о «свободе духа», думая в этом найти для себя лазейку. Что они под этим разумеют, об этом я, к счастью, могу сообщить вопросительно взирающему на меня читателю: ничего, положительно-таки ничего; это просто, по доброй немецкой манере и привычке, неразрешенное, даже, собственно, ничего не говорящее выражение, которое дает желанное убежище для их пустоты и трусости. Слово «дух» – это, собственно, метафизическое выражение, всегда означающее интеллектуальные способности в противоположность воле; но способности эти вовсе не могут быть свободными в своем действии, а должны сообразоваться, приноровляться и подчиняться прежде всего правилам логики, затем данному каждый раз объекту их познания; их задача – чистое, т. е. объективное, понимание, и тут совсем нет места для «stat pro ratione voluntas»[119]. Вообще, этот «дух», всюду отирающийся в теперешней melevjni литературе, – чрезвычайно подозрительный тип, у которого поэтому надо спрашивать при встрече его паспорт. Наиболее обычное его занятие – служить маскою для убожества мысли, связанного с трусостью. Между прочим, немецкое слово geist («дух», «ум»), как известно, находится в родстве со словом gas («газ»), которое, происходя от арабского и из алхимии, обозначает пар или воздух, точно так же как и spiritus, pneuma, animus, родственные с anemon[120].
Вот как, следовательно, обстоит дело с нашей темой в философских и более широких ученых кругах – после всего того, что о ней было высказано названными великими умами. Здесь еще раз подтверждается, что не только природа во все времена производила лишь крайне немногих действительных мыслителей в виде редких исключений, но что и сами эти немногие всегда существовали лишь для очень немногих. Вот почему призраки и заблуждения все время продолжают сохранять свое господство.
При обсуждении морального вопроса имеет вес также и свидетельство великих поэтов. Их суждения не основаны на систематическом исследовании, но их зоркий глаз глубоко проникает в человеческую природу, поэтому в их словах непосредственно выражается сама истина. У Шекспира в «Мере за меру» (действ. 2, сц. 2) Изабелла просит правителя-регента Анджело помиловать ее брата, приговоренного к смерти:
Angelo. I will not do it.
Isab. But can you, if you would?
Ang. Look, what I will not, that I cannot do[121].
В «Двенадцатой ночи» (действ. 1) говорится:
Fate, show thy force, ourselves we do not owe.
What is decree’d must be, and be this so[122].
Также Вальтер Скотт, этот великий знаток и изобразитель человеческого сердца и его сокровеннейших побуждений, ясно высказал ту же глубокую истину в своем «St. Ronans Well» (т. 3, гл. 6). Он представляет здесь смерть кающейся грешницы, которая на смертном одре пытается облегчить свою встревоженную совесть признаниями, и среди этих признаний автор влагает ей в уста такие слова:
«Go, and leave me to my fate; I am the most detestable wretch, that ever liv’d – detestable to myself, worst of all; because even in my penitence there is a secret whisper that tells me, that were 1 as I have been, I would again act over all the wickedness I have done, and much worse. Oh! for Heavens assistance, to crush the wicked thought!»[123]
Доказательство в пользу верности этого поэтического изображения дает следующий аналогичный случай из жизни, служащий в то же время самым ярким подтверждением для учения о постоянстве характера. Случай этот в 1845 г. попал из французской газеты «La Presse» в «Times» от 2 июля 1845 г., откуда я перевожу и рассказ о нем. Заголовок гласит: «Военная казнь в Оране». «24 марта был приговорен к смерти испанец Агвиляр, иначе Гомец. Накануне казни он в разговоре со своим тюремщиком сказал: “Я не столь виновен, как меня представили: меня обвиняют в совершении 30 убийств, тогда как на самом деле я совершил их всего 26. С детства жаждал я крови: семи с половиной лет от роду я заколол ребенка. Я умертвил беременную женщину, а потом одного испанского офицера, вследствие чего мне и пришлось бежать из Испании. Я скрылся во Францию, где совершил два убийства, прежде чем поступить в иностранный легион. Среди всех моих преступлений я больше всего раскаиваюсь в следующем: в 1841 г. я во главе своей роты захватил