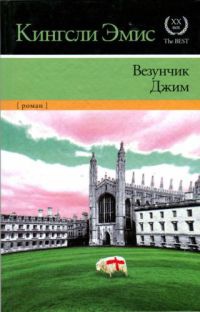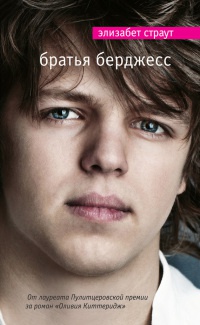Я же оставался мелкобуржуазным ничтожеством, так как не примыкал ни к тому, ни к другому лагерю и вообще был угрюмым, как сыч. И хотя я первым в нашей семье попал на студенческую скамью, мне было нелегко изображать пролетарское происхождение. И это с уроками игры на фортепьяно и книжками с произведениями классиков в качестве подарка на Рождество!
Держись я особняком, это никого бы не заботило. Никто не мог помешать мне жить анонимной жизнью. Но я сделал для себя одно открытие — не без помощи соседа по комнате, который таскал меня за собой на всякие акции протеста. Оказывается, политика дарит вам иной вид анонимности — принадлежность к стаду.
И пока в Париже и Лондоне набирало обороты студенческое движение, в нашей «Группе по изучению левых идей» мы ограничивались тем, что устраивали мирные акции протеста, направленные против комендантского часа в студенческих общежитиях. Остальное же время мы полностью оправдывали свое название — изучали левые идеи. А поскольку у меня обнаружился талант к языкам, я оказался полезен Ною и его прихлебателям по «Группе» в тех случаях, когда требовалось растолковать витиеватые изречения Ги Деборда, основателя «Парижской группы международных ситуационистов». По всей видимости, я стал вообще первым переводчиком Деборда на английский. Кстати, с финансовой точки зрения это оказалось куда благороднее, чем то, за счет чего я существовал — то есть пассивно позволял родителям тратить на меня их скромные сбережения. Выпускник грамматической школы, сын тех, что сами получили образование довольно поздно — в церковных залах и вечерних классах; тех, что верили, что образование — благороднейшая вещь, к которой надо изо всех сил стремиться. Мои родители всю свою жизнь копили деньги, чтобы вложить их в великую ценность — собственного ребенка.
Кэтлин и Уильям свято верили (с тех пор, насколько мне известно, никто уже не верил в подобное столь фанатично), что щедрость обладает огромной моральной силой. Тратя на меня последние гроши, они не ставили под сомнение мою благодарность. Их психологическая близорукость не могла не поражать. В конце первого семестра отец прислал мне чек. (Дело в том, что я наделал долгов, покупая книжки.) Письмо, которое он приложил к чеку, заканчивалось следующими словами: «Искренне твой — Отец».
— Зачем ему понадобилось писать «искренне твой»? — спросил Ной Хейден, когда я показал ему письмо. — А вот то, что он написал слово «отец» с большой буквы, мне даже нравится.
— Это потому, что он меня знает лично, — ответил я. — А вот если бы он обращался к незнакомцу, то написал бы так: «С глубоким уважением».
Мне срочно требовалось излить душу, хотелось обратить все в шутку, а иначе все выглядело просто ужасно. В первые и самые трудные месяцы в колледже Ной Хейден был моим спасательным кругом и, что самое главное, умел держать при себе то, что я ему говорил.
— А ты-то сам как?
Он сообщил мне, что «Группа по изучению левых идей» тихо испустила дух вскоре после того, как я бросил учебу, — можно сказать, умерла естественной смертью. Хейден сдал выпускные экзамены, однако, по его словам, не удосужился даже узнать об их результатах.
— Да чтобы я туда вернулся! Не дождутся! — заявит он. Презрительное выражение его лица словами не передать. Я увидел в нем нечто смехотворное.
— Ты имеешь в виду наш колледж? Или весь Кембридж?
Он только махнул рукой.
— Какая разница, все — одно дерьмо.
Несмотря на всю ярость его политической риторики или параноидальное увлечение ситуационистами, я бы никогда не поверил, что он способен бросить университет. Но как еще можно понять его слова? А этот прикид? Чем дольше мы с ним говорили, тем больше во мне крепла уверенность, что Хейден пробил дно даже в своих левацких идеях и теперь обитает в каком-то собственном измерении.
— Ты пойдешь на марш?
На следующий день, то есть в субботу, на Гровнер-сквер должен был состояться марш протеста против войны во Вьетнаме.
— Мы покажем этим ублюдкам, что такое настоящий протест! — воскликнул Хейден, довольно потирая руки.
Я с трудом узнавал бывшего соседа — он теперь даже говорил на другом языке, переняв подростковую риторику дешевой агрессии. Вьетнам был для него лишь предлогом. Куда больше Хейдена интересовали другие участники марша, которые, по его словам, ничего не смыслили в подобных акциях.
Разумеется, то были не его собственные слова. Скорее он набрался их за три года, пока слонялся без дела, хотя сам он называл это не иначе как действием. Это было идеальное время для разного рода политических Свенгали. Точно так же, как в колледже, я попал под гипнотическое воздействие Хейдена, так и он сам — неожиданно столкнувшись лицом к лицу с внешним миром — нашел для себя кумира, чьим речам безоговорочно верил.
Часто правда раскрывается в жестах и оговорках. Вот и сейчас точно так же. «В шестьдесят шестом Джош мотался в Страсбург», «Кстати, ты не читал статейку, которую он в „Интернэшнл таймс“ недавно тисканул?», «Джош задумал провернуть хэппенинг в универмаге „Селфриджес“». (Даже синтаксис у него стал иным, словно он строил предложения по образу и подобию своего кумира.) Короче, куда ни глянь, повсюду Джош со своим верным воинством и самопальной революцией. Язвительные и вместе с тем исполненные нежности слова Ноя Хейдена свидетельствовали о его одержимости.
Мне плохо запомнился сам марш. Я отправился на него лишь за тем, чтобы снова встретиться с Хейденом. Как обычно случается в толчее, мы с ним разминулись. Обитая у себя на верхнем этаже общества, я имел весьма смутное представление о том, как изменился окружающий мир. И вот теперь я попал в самую гущу событий, угодив в западню из других протестующих, которых здесь оказалось огромное количество, в основном немецких студентов. Они то изображали бег на месте, то принимались выделывать какие-то похотливые телодвижения, словно были членами какой-то рок-группы. Затесалась здесь и горстка настоящих клоунов и жонглеров. Разноголосица языков (многие из которых я слышал впервые), стоило нам выйти на Оксфорд-стрит, слилась в однообразное скандирование: «Хо-Хо-Хо-Ши-Мин!»
Три парня в костюмах горилл и Сауломенных шляпах заорали в ответ:
— Шо-ко-лад! Шо-ко-лад! Пьем горячий шо-ко-лад!
Один из них снял с себя обезьянью голову и улыбнулся мне. Ну конечно же, Ной Хейден собственной персоной! Еще мгновение — и его как ветром сдуло.
Что было дальше, я почти не помню — Гровнер-парк, и у меня темнеет в глазах.
Еще помню, как в небо полетели комья земли. Если не ошибаюсь, мы были где-то рядом с поСаульством и в самых первых рядах, потому что комья земли падали прямо на нас, причем было это довольно больно.
Вроде бы кто-то закричал, потом — копыта полицейской лошади и звук, который они производили, да нет, даже не звук, а мягкие шлепки, словно на деревянный пол падают тысячи пакетов с растопленным маслом. По толпе пробежала волна возбуждения, мы все дружно покачнулись, словно потеряв равновесие. Помню, в той толпе мне показалось, будто весь мир дрожит и раскачивается из стороны в сторону, как пассажирский самолет, угодивший в воздушную яму. Помню, как толпа бросилась врассыпную, как белый конь встал на дыбы, помню человека, занесшего для удара дубинку — причем надо мной.