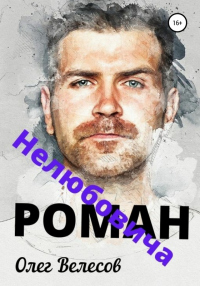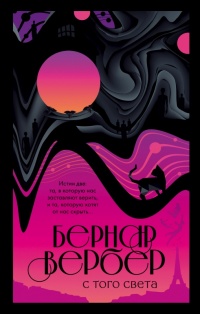Мы сидели, почти не разговаривая, пока я не начал описывать «особые» увлечения Чангиза, его походный топчан и то, какое уморительное зрелище представляет собой человек, влюбившийся в собственную жену. Но вскоре мама потеряла интерес к этой теме. Если её не порадовали несчастья других, то ничто ей не поможет. Разум её превратился в ледяную горку, и жизнь безнадежно соскальзывала с её наклонной поверхности. Я попросил её нарисовать мой портрет.
— Нет, Карим, не сегодня, — вздохнула она.
Но я не отставал: нарисуй меня, нарисуй меня, нарисуй меня, мама! Ругал её. Разозлился страшно. Не хотел, чтобы она сдавалась и мучила себя размышлениями, забившись в темную норку. Жизнь для мамы была сущим адом. Ты постепенно слепнешь, тебя насилуют, забывают о твоем дне рождения, Никсон побеждает на выборах, твой муж уходит к блондинке из Бекенгема, потом ты стареешь, не можешь передвигаться, и умираешь. Ничего хорошего на земле случиться с тобой не может. Тогда как у других подобная точка зрения может выработать стоическое отношение к жизни, у мамы она породила только жалость к себе. Поэтому я был удивлен, что в конце концов она начала меня рисовать, рука её вновь летала над листом, в глазах появился огонек. Я замер, изо всех сил стараясь не шевелиться. Когда она вылезла из постели и пошла в ванную, велев мне не подглядывать, я тут же воспользовался шансом.
— Ну не ерзай, — жалобно попросила она, вернувшись и продолжив свое занятие. — У меня глаза не получаются.
Как же заставить её понять? Может, не надо было ничего говорить. Но я был рационалистом.
— Мам, — сказал я. — Ты смотришь на меня, твоего старшего сына, Карима. Рисунок получился замечательный, и не слишком волосатый, но это портрет папы, правда? Это же его большой нос и двойной подбородок. И мешки под глазами — его мешки, не мои. Мам, это совершенно не мое лицо.
— Ну, дорогой, с годами сыновья становятся очень похожи на своих отцов, разве нет? — и посмотрела на меня со значением. — Вы же оба меня бросили, не так ли?
— Я тебя не бросал, — сказал я. — Я приду как только понадоблюсь. Я учусь, не забывай, в этом все дело.
— Ага, знаю я, чему ты там учишься. — Не слишком ли часто мои домашние с иронией отзываются обо мне и о том, чем я занимаюсь? — Я одна-одинешенька. Никто меня не любит.
— Нет, любят.
— Нет, не любят и не помогают. Никто и пальцем не шевельнет, чтобы помочь мне.
— Мам, я тебя люблю, — сказал я. — Просто виду не подаю.
— Нет, — сказала она.
Я поцеловал её и обнял, и постарался убраться из этого дома, ни с кем не попрощавшись. На цыпочках сошел вниз и выскользнул на улицу, и почти добрался до ворот, когда из-за угла стремглав выскочил Тед и схватил меня за рукав. Видно, подстерегал, затаившись в засаде.
— Скажи отцу, что мы все в восторге от того, что он сделал. Он мне здорово помог!
— Хорошо, скажу, — сказал я, вырываясь.
— Не забудь.
— Ладно, ладно.
Чуть не бегом возвращался я в Южный Лондон, в квартиру Джамилы. Заварил себе целый чайник мятного чая и молча уселся за стол в гостиной. В голове у меня царило смятение. Пытался отвлечься, сосредоточившись на Джамиле. Она, как всегда, сидела за столом, лицо освещено мягким светом настольной лампы. На стопке библиотечных книг — большой кувшин с ярко-красными полевыми цветами и эвкалиптом. Думая о людях, которых любишь, всегда выбираешь какие-то моменты — определенный день, а то и целые недели, — когда они прекрасней всего, когда в них идеально сочетаются юность и мудрость, красота и душевный покой. И пока Джамила увлеченно читала, бубня под нос, а Чангиз, лежавший на своем топчане в окружении «особенных» книжек, покрытых слоем пыли, посвященных крикету журналов и початых пакетиков с печеньем, поедал её глазами, я почувствовал, что сейчас — момент наивысшего расцвета её личности. Ведь и я мог бы так же сидеть сейчас, как фанат, глядящий на свою любимую актрису, как любовник, глядящий на свою возлюбленную, и не думать о маме и о том, что же с ней делать. Если вообще возможно помочь другому человеку.
Чангиз дождался, пока я допью чай; тревога моя слегка улеглась. Потом он взглянул на меня.
— Ну как?
— Что «ну как»?
Он, кряхтя, сполз с топчана с видом человека, который пытается идти, держа в руках пять футбольных мячей.
— Пошли, — сказал он, волоча меня в кухню.
— Послушай, Карим, — зашептал он. — Я должен сегодня уйти.
— Да?
— Да.
Он попытался придать важность своему пухлому лицу. Что бы он ни делал, доставляло мне радость. Дразнить его было одним из самых приятных развлечений в моей жизни.
— Ну и уходи, — сказал я. — Тебя же, вроде, никто не держит.
— Тсс. Я ухожу с моей подругой Шинко, — доверчиво сказал он. — Она хочет показать мне Тауэр. А ещё я прочитал о некоторых новых позах, ага. Весьма диковинных, когда женщина стоит на коленях. Мужчина сзади. Так что ты оставайся и отвлекай Джамилу.
— Отвлекать Джамилу? — я рассмеялся. — Пузырь, да ей плевать, здесь ты или нет. Ей все равно, где ты.
— Что?
— А чего ей волноваться-то, Чангиз?
— Ну ладно, ладно, — сказал он, отодвигаясь. — Я понял.
Я продолжал язвить.
— Зато Анвар волнуется, недавно о твоем здоровье спрашивал. — Страх и уныние немедленно отразились на лице Чангиза. Восхитительное зрелище! Нельзя сказать, чтоб это была его любимая тема для разговора. — Ну что, Чангиз, штанишки обмочил от страха?
— Этот говнюк, мой тесть, на целый день у меня эрекцию отобьет, сказал он. — Лучше уйду поскорей.
Но я удержал его за увечную руку и продолжал:
— Меня уже тошнит от него, вечно на тебя жалуется. Пора тебе что-то с ним делать.
— Этот гад думает, я ему слуга, что ли? Какой из меня торговец! Я в бизнесе ничего не смыслю, не мое это. Я человек умственного труда, не какой-нибудь необразованный иммигрант-замухрышка, который едет сюда, чтобы вкалывать день и ночь. Скажи ему, чтоб не забывал этого.
— Ладно, скажу. Но предупреждаю, Чангиз, он собирается написать твоему отцу и брату и рассказать, какая ты на самом деле ленивая, жирная задница. Я знаю что говорю, потому что он просил меня набрать письмо на компьютере.
Он схватил меня за руку. Лицо у него было взволнованное.
— Ради бога, только не это! Выкради это письма, если сможешь. Умоляю!
— Сделаю все, что в моих силах, Чангиз, я ведь тебя как брата люблю.
— Ага, и я тебя! — с чувством сказал он.
Стояла жара, я лежал на спине голый рядом с Джамилой. Все окна были открыты, и с улицы вливались в комнату выхлопы машин и ругань безработных. Джамила попросила трахнуть её, и я стал мазать ей между ног вазелином, руководствуясь инструкциями вроде «сильнее», «еще сильнее, пожалуйста» и «да, но ты все-таки не зубы чистишь, а любовью занимаешься». Я спросил, щекоча ей носом ухо: