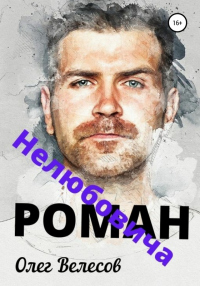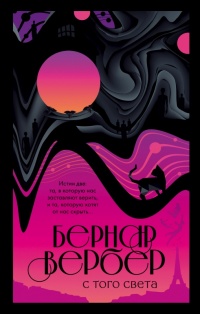Мама слегла в постель в тот самый день, когда покинула наш дом, и до сих пор не вставала. Но Тед был в полном порядке, и мне не терпелось с ним увидеться. Он совершенно изменился, как сказал Алли; потерял прежнюю жизнь, чтобы найти новую. Так что Тед олицетворял папин триумф, папа его действительно освободил.
С тех самых пор, как папа изгнал из дяди Теда, сидящего с проигрывателем на коленях, нечистую силу, он ровным счетом ничегошеньки не делал. Теперь он до одиннадцати утра валялся в постели, даже не умывшись, и читал газеты, выжидая, когда откроются пабы. Дни он посвящал долгим прогулкам по Южному Лондону или занятиям в группах медитации. По вечерам отказывался разговаривать — обет молчания — и один день в неделю голодал. Он был счастлив, счастливее, чем раньше, если не считать того, что жизнь его не имела никакого смысла. Но теперь, по крайней мере, он знал об этом и смотрел фактам в лицо. Папа посоветовал ему «исследовать» это дело. Еще он сказал Теду, что смысл жизни может «проявится не сразу», иногда на это уходят годы, но он должен жить настоящим, радоваться голубому небу, деревьям, цветам, хорошей еде, и, возможно, чинить кое-что в доме у Евы, допустим, папин торшер или проигрыватель, если у него возникнет нужда в трудотерапии. Что-нибудь чересчур техническое может снова сбросить его с орбиты.
— Я хочу только одного — лежать в гамаке, — сказал Тед. — Лежать и качаться, качаться…
Все это гамачное поведение Теда, его обращение в Теда-буддиста, как метко назвал это папа, приводило тетю Джин в ярость. Ей хотелось срезать его качающийся гамак.
— Злится на него страшно, — с удовольствием констатировала мама. Борьба между Тедом и Джин была для неё единственным развлечением в жизни, и это можно было понять. Джин бесновалась, и ругалась, и даже пускала в ход ласку, лишь бы вернуть Теда на путь привычного, но трудового несчастья. Ведь доходы-то у них прекратились. Раньше Тед хвастался: «Подо мной десять человек работают». Теперь не осталось ни одного. Под ним был только разреженный воздух горных вершин и бездна банкротства. Но Тед лишь улыбался и говорил:
— Это мой последний шанс стать счастливым. Я не могу пропустить его, Джинни.
Однажды тетя Джин, чтобы хоть как-то досадить ему, принялась перечислять бесчисленные достоинства её бывшего хахаля Тори, на что Тед в отместку произнес (это случилось как раз во время его вечернего молчания):
— Этот парнишка довольно быстро прозрел в отношении тебя, не так ли?
Когда я добрался до их дома, Тед мурлыкал песенку, какие обычно поют в пабах. Он сгреб меня в охапку и затащил в чулан, чтобы поговорить на любимую тему — о моем папочке.
— Как там отец поживает? — спросил он громким шепотом. — Счастлив? и продолжал мечтательно, будто говорил о каких-то героических приключениях. — Просто взял да и удрал с этой роскошной женщиной. Невероятно! Я его не осуждаю. Завидую! Сжечь мосты и бежать. Этого каждый хочет, разве нет? Хотеть-то хочет, но не делает. Никто, кроме твоего папы. Вот бы с ним повидаться. Все детально обговорить. Но в этом доме сия тема табу. Не то что видеться, говорить о нем запрещено. — Тут из гостиной появилась тетя Джин. Тед прижал палец к губам. — Ни слова!
— О чем, дядя?
— Ни о чем, черт побери!
Даже сегодня тетя Джин выглядела блестяще — с прямой спиной, на высоких каблуках и в темно-синем платье с приколотой на груди бриллиантовой брошью в форме ныряющей рыбки. Ногти у неё были само совершенство: яркие, маленькие ракушки. Она сверкала, как свеженарисованная, даже дотронуться было боязно: не дай бог смажешь. Как будто готовилась к очередному званому вечеру. Во время этих вечеров она щедро оставляла отпечатки своих губ на щеках, бокалах, сигаретах, салфетках, печеньях и палочек для коктейля, покуда всю комнату не украсит. Но вечеринок больше не устраивали в этом доме полумертвецов, доме, где жил один новообращенный человек и один сломленный. Джин была груба и пила; до этого она долго крепилась. Но что ещё делать, когда понимаешь, что при нынешних обстоятельствах судьба твоя пожизненное тюремное заключение, а не просто временное лишение основных удовольствий.
— А-а, это ты, — сказала тетя Джин.
— Угу, кажется, я.
— Ну и где ты теперь?
— В колледже. Поэтому я и не живу здесь. Чтобы поближе к колледжу быть.
— Ну да, как же, конечно. Другим можешь заливать, Карим.
— Алли дома?
Она отвернулась.
— Алли хороший мальчик, но слишком на шмотки падок, верно?
— Да, он у нас, пожалуй, чересчур экстравагантен.
— Он переодевается по три раза на дню. Как девчонка.
— В самом деле, как девчонка.
— Подозреваю, он и брови выщипывает, — безжалостно сказала она.
— Ну, он же волосатый, тетя Джин. Его в школе дразнят Кокосом.
— Мужчина и должен быть волосатым, Карим. Волосатость — признак настоящего мужчины.
— Вы в последнее время прямо детективом заделались, да, тетя Джин? Вы не надумали случайно поступить на службу в полицию? — сказал я, поднимаясь наверх. А сам подумал: милый старина Алли.
Я не скучал по нему, вообще почти не вспоминал, что у меня есть брат. Мы были не слишком близки, и я презирал его за то, что он такой воспитанный и выслуживается перед родителями, шпионя за мной. Держался от него подальше, чтобы домашние не знали, что у меня на уме. Но сейчас я радовался, что он здесь — во-первых, мама не одна, а во-вторых он бесит тетю Джин.
Нет во мне, видно, ни капли сострадания, или ещё чего. Наверное, я бессердечный негодяй, но мне чертовски не хотелось тащиться по этой лестнице к маме, тем более когда Джин следит снизу за каждым моим шагом. Может, ей делать больше нечего.
— Был бы ты внизу, — сказала она, — я бы тебе врезала за твою дерзость.
— Какую такую дерзость?
— Которая у тебя внутри сидит. Дерзость и наглость.
— Может, вы заткнетесь? — сказал я.
— Карим, — она чуть не поперхнулась от злости. — Карим!
— Отвалите, тетя Джин.
— Буддистский ублюдок, — ответила она. — Все вы, буддисты, такие.
Я вошел в мамину комнату. Тетя Джин орала мне вслед, но слов было не разобрать.
Одна из стен свободной комнаты тети Джин, где непричесанная, в своей розовой ночной рубашке, лежала, свернувшись калачиком, мама, состояла из зеркальных шкафов, забитых старыми, но роскошными вечерними платьями славных былых времен. Возле кровати стояли клюшки для гольфа и несколько пар пыльных кроссовок Теда, тоже предназначенных для игры. Они ничего не убрали. Алли сказал по телефону, что Тед кормил её — приходил со словами: «Вот, Мардж, кусок вкусной рыбы и хлеб с маслом», но в результате все сам и съедал.
Я поцеловал её с неприязнью, боясь заразиться её слабостью и печалью. Разумеется, я ни на секунду не задумался о том, что мое жизнелюбие и стойкость могут её поддержать.