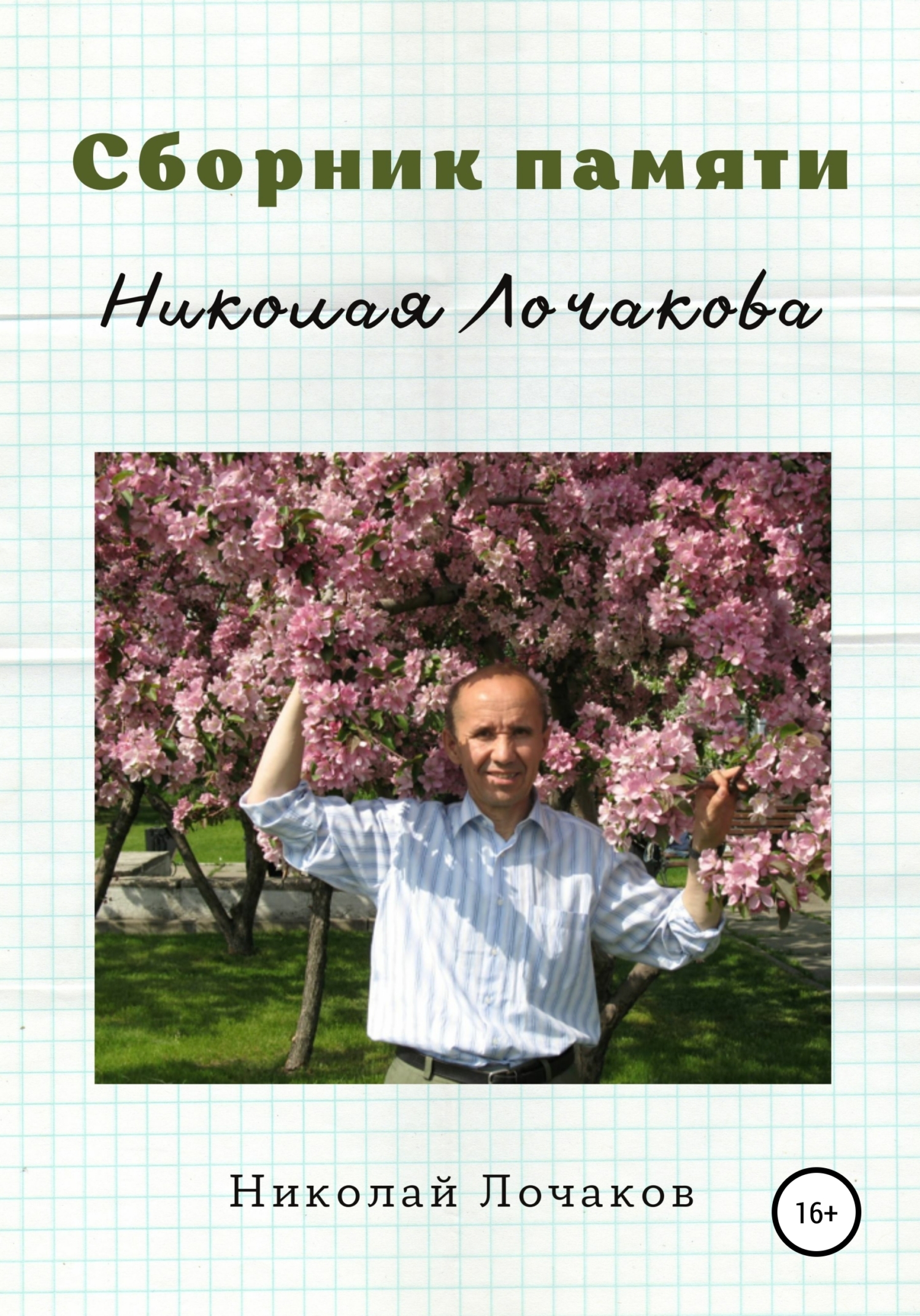если родится мальчик, пусть Мосана даст ему второе имя дяди Нгора, его мусульманское имя – Элиман. Родился мальчик. Я дал ему традиционное имя Мадаг. Элиман Мадаг Диуф.
Как ты, вероятно, уже догадываешься, Асану не довелось увидеть сына. Он не вернулся с войны. Мы не получили от него никаких вестей. Не знаем, что произошло с его телом. Должно быть, он затерялся в безднах времени и истории. Как многие другие, кого эта война перемолола, поглотила, стерла с лица земли. Когда порой я думаю о нем, то не испытываю ничего, ни гнева, ни жалости. Ни даже презрения. Я не скучаю по нему. Я не любил его при жизни, не люблю и после смерти. Наши жизни, тесно сплетенные с незапамятных времен, тем не менее прошли раздельно. Этот человек был ослеплен любовью к Франции, самой большой любовью, на какую был способен. И эта любовь в конце концов пожрала его. Думаю, он с самого начала знал, что не вернется. Я даже задаюсь вопросом: а не было ли у него тайного желания умереть. Есть ли лучший способ стать белым, чем умереть на войне белых, в стране белых, от пули или штыка белого? То, о чем он мечтал, не могло свершиться в этой жизни. Ему нужна была другая: жизнь в коже белого интеллектуала; именно так он представлял себе идеальное жизненное задание. Не стать отцом, не любить Мосану, нет: быть головастым белым, который читает или пишет книги. Так что он пошел на смерть добровольно, возможно надеясь, что в следующей жизни его мечта сбудется. Иногда я пытаюсь угадать, как он погиб, какими были его последние мысли. Думал ли он о нашем детстве, о дяде Нгоре, о матушке Мбоил, называвшей нас с ним «детками», о Мосане, о белых миссионерах, которые его воспитали, о сыне, которого он покинул и которого никогда не увидит? Умер ли он в одиночестве? Была ли его смерть жестокой и страшной? Страдал ли он? Успел ли понять, что умирает? Я задаю себе эти вопросы не из сострадания к Асану. Меня преследует мысль о том, что чувствует человек в последние минуты жизни. Ведь только тогда можно подвести итоги, по-настоящему раскаяться, искренне исповедаться, взглянуть на себя беспристрастно. Жизнь принадлежит нам только в тот момент, когда она ускользает от нас.
Не буду тратить время на рассказ о детстве Элимана или о том, как жили мы с Мосаной в последующие годы. Первые недели после ее возвращения были очень тяжелыми для нас обоих. Мы уживались под одной крышей, но между нами пролегала пропасть, которую разверзают обиды и раны прошлого. А потом время взяло свое. На свет появился Элиман Мадаг. Я оказался по отношению к нему в той же роли, какую играл когда-то дядя Нгор по отношению ко мне и Асану. На мне лежала ответственность за потомство моего брата.
Любил ли я Элимана? Еще и сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Иногда в его детском голоске мне слышался голос Асана. А порой, когда раздавался его мелодичный смех, я видел Асана. В сердцевине его невинности иногда, как боль в воспаленном нерве, вспыхивала вся ненависть, которую я испытывал к его отцу. Можно ли возлагать на ребенка вину за события прошлого, которые предшествовали его рождению? Можно ли сердиться на него за проступки родителей? Упрекать его за то, что он – след, оставленный делами его предков, хранилище всего того, чем они были? Нет, ответит большинство людей. И, наверное, будут правы. А вот я на этот счет сомневаюсь. Точнее, сомневался. Прикасаясь к Элиману, когда он был еще в пеленках, когда он был грудным младенцем, я задавался вопросом: а почему, собственно, он не должен иметь ничего общего со своим отцом? Почему ему следует отпустить грехи прошлого? Воспринимать его как нечто совершенно новое, никак не связанное с собственной историей? Асан говорил, что кровь проистекает из дальней дали, и этот поток важнее людей, которых он несет. Элимана связывали с Асаном только сыновние узы или что-то еще? Были дни, когда я отвечал на этот вопрос утвердительно: Элиман был плодом его желания. До того как стать плотью от его плоти, Элиман был для него идеей, во всяком случае возможным результатом его плотского влечения к женщине. Значительная часть того, чем был мой брат, отложилась в Элимане, как ил откладывается на дне озера, озера крови. Элиман продолжал историю своего отца, пусть он и старался уклониться от этого, пусть и выбирал другие дороги. Позднее он мог даже ненавидеть отца, считать его самым низким человеком на свете: нельзя было избавиться от частицы Асана, которую он нес в себе, частицы не только физической, но и мифологической – частицы того небытия, откуда появляется каждый человек. И снова мне вспоминались слова дяди Нгора о шипе белой цивилизации, вонзившемся в плоть нашей, и о том, что этот шип уже нельзя извлечь. Его слова были применимы также по отношению к Асану и к Элиману.
Элиман повсюду таскал за собой тень Асана и воспоминания о нем. Он сам был этой тенью и этим воспоминанием. Уже одно это давало понять, что он постоянно будет вызывать у меня мысли о брате. Элиман никогда от него не избавится. Невозможно избавиться от своей истории, если она вызывает у нас стыд. Нельзя избавиться от нее в ночной темноте, как от нежеланного ребенка. С нею борются, с нею всегда борются, и единственный способ победить ее – бороться снова и снова, стать с ней заодно, признать ее, снова и снова указывать на нее, называть по имени, разоблачать ее, если она маскируется, стремясь подчинить нас себе. То, что я говорю, кажется тебе чудовищным? Это твое право. Можешь думать, что сказать ребенку: «Ты всегда будешь зеркалом, в котором отражаются твои родители, даже если ты их убьешь, даже если ты их забудешь», – это ужасно Ты можешь так думать, Сига. Но ведь ты знаешь: по сути, я прав. Кому, как не тебе, это знать. Напрасно ты убиваешь меня в своих мыслях и желаниях, напрасно будешь убивать меня в книгах, которые напишешь, – хоть ты и не веришь в мои предвидения, мне открылось, что ты будешь писать книги, – книги, в которых будешь убивать меня словами, – знай: я жив и всегда буду с тобой. Я твой шип. Вытащишь меня – умрешь. И даже после смерти я все еще буду, где был.
Элиман не смог бы спастись от Асана. Как и Мосана. Нам всем пришлось бороться за то, чтобы в наших умах эти три лица не слились