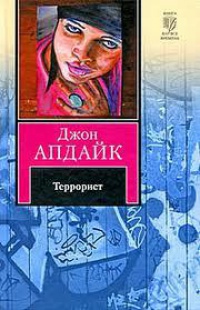Федюнь, лучше песняка, ага?
Тихон звонко хлопает в ладоши, улыбчиво глядит на взъерошенного Федора и мягким тенором затягивает:
Ох, ка-ак на-а зо-орьке да на заре-е
Се-ерый со-око-л вылета-а-л…
Федор угрюмо и беззвучно разевает рот, подлаживается под голос лесника, выдавливает из себя какие-то скрипящие звуки и мотает головой, отнекивается:
— Не, такую дореволюционную не знаю. Давай какую-нибудь нашенскую, молодежно-дорожную или вот эту, любовную… — Он шикает на Тихона и безголосым басом долдонит нараспев: — В Москве в удаленном раене тринадцатый дом от угла-а…
— В отдаленном, пенек! — перебивает Тихон, смеясь, и бойко подхватывает знакомую песню.
Уходит Федор со двора Тихона неторопливо, отяжелевший, сытно отрыгиваясь; отойдя шагов с десяток от ворот, он оборачивается и напоминает приказным тоном:
— Тишка, последи, чтоб твои девки там не шкодили с моей коляской! Чтоб никакие финтифлюшки там-кось не трогали! Эт-то ж вещь — понимать надо…
— Не беспокойся. Будет твоя тачка в целости и сохранности. Моих девок тошнит от одного запаху бензинного, — отвечает Тихон, стоя у ворот в желтой рубахе с расстегнутым воротом, босой, простоволосый, небритый…
— Ну, тогда я погнал!
— Погоняй, Федюнь, погоняй. В добрый час.
И они расстаются.
Солнышко уже на закате, малиново-огненное, огромное, разделенное напополам вытянутой по горизонту узкой полоской оранжево-пепельной тучки. Стоит после-дождевая теплынь, пахнет укропом и размытой глиной.
Удаляясь, Федор звучно шлепает сапожищами по набрякшей от дождя стежке, тянущейся у забора, и даже в его разболтанно-грузной походке, в гордо вскинутой голове с белокуро-льняными волосами угадывается какая-то нарочитая показушность, заметное желание козырнуть своим якобы неподвластным никому анархизмом…
Тихон долго глядит вслед удаляющемуся Федору, усмехается чему-то, потом вздыхает и смотрит на полыхающий огненными красками вечерний закат, похожий на зловещее зарево вулканического извержения; смотрит зачарованно-восхищенно, как на великое знамение невиданных грядущих перемен, и думает: «Заходит солнце и спешит к месту своему, где оно восходит… И так мильярды лет! Чего только не было — все прошло, и мы пройдем, в землю обратимся и травой взойдем… И так было и будет, и никому этого не изменить…»
— Так-то вот, Федя, — неожиданно для самого себя говорит Тихон, переминаясь босыми белыми ногами на мокро-зеленой муравке, — оказывается, вон она какая штука-то жизнь… Это, Федя, понимать надо.
ПОЗДНИЕ ГРОЗЫ
Сыплет унылый дождь. Это уже похоже на осень, хотя еще только конец августа. Тамара стоит у окна и сквозь заслезившееся от дождя стекло напряженно смотрит во двор. Из окна этого большого бревенчатого дома, в котором размещены палаты с больными, виден новый белокаменный дом с гранитно-серым цоколем и высоким крыльцом: в доме — аптека, приемная и врачебный кабинет. Дверь приемной отворена, а за дверью стоит и курит Вадим Станиславович. Тамара его не видит. Она только наблюдает за синеватым дымком и представляет себе доктора стоящим у двери. На нем — полосатый свитер под халатом и коричневые ботинки на толстой подошве, которые Вадим Станиславович носит и в будни и в праздники. Тамара старается не думать о нем и переводит взгляд на гладкую глинистую дорогу, маслянисто заблестевшую под дождем. По правую сторону дороги видны стройные сосны.
Когда-то тут был сплошной бор, потом его вырубили, оставив у дороги эти мачтовые медно-красноватые стволы с зелеными кронами. Сколько перевидели эти сосны-сироты… Эта мысль на миг вспыхивает в сознании Тамары, и, слыша за дверью палаты тяжелое, сиплое дыхание старика Палашина — у него астма и мочекаменная болезнь, — она думает, что он, наверно, долго не протянет. Мысль эта не кажется Тамаре дикой и нелепой. Когда долго обращаешься с этим, то все кажется обыденным, даже сама смерть, если она внезапно вторгается в палату.
Комната дежурных медсестер, в которой всегда слышен монотонный стук настенных часов, прискучила Тамаре так же, как стул, на котором она часто сидит и читает в долгие часы дежурства или дремлет, облокотясь на столик, уставленный мензурками, ампулами, коробками… А сегодня суббота, и Тамаре еще больше не по себе в этой комнате, но что поделаешь: каждый катит свой камень в гору. Она думает о Мишке, как он уже пришел с работы, бреется, утюжит брюки… В клубе идет новая французская кинокартина «Гром небесный». Заведующая аптекой в восторге от этого фильма.
Да, субботний вечер, а ей дежурить еще два часа; дома — больная свекровь, надо все прибрать и в кино успеть. Тамара вздыхает и опять смотрит на этот дымок, представляет себе свитер, коричневые ботинки с тупыми носами. «И чего он не уходит?» — с беспокойством думает Тамара и отходит от окна. Она вынимает из кармана зеркальце и смотрится в него. Странная желтизна под глазами, слегка впавшие щеки… А глаза? «Нежно-голубые…» — вспоминает она. Так сказал однажды Вадим Станиславович. Его все называют по имени-отчеству, а она давно с ним на «ты».
Но зачем сейчас об этом?..
— Тамарушка, загляни-ка к старику на сколь там минуток, — слышит она шепелявый голос Палашина за дверью палаты.
— Иду, иду, — говорит она и прячет зеркало в карман халата.
Тамара знает, что старика томит одиночество. Ему хочется поговорить. Час назад к нему наведалась жена, она сидела у него долго, и вот старик уже опять томится. Скрипнув дверью, Тамара входит в палату.
— Вам плохо?
На узкой койке, накрыв серым одеялом ноги, сидит Палашин, лобастый, облысевший, с запавшими глазами. Старик обрадованно глядит на Тамару, хрипло-свистяще дышит и слабо отмахивается:
— Какой там… Нудная погода, Тамарушка, и я чегой-то раскис… Хотя б суседа мне какого сюда…
Тамара присаживается на другую койку, пустую, опрятно заправленную новыми, хрустящими простынями. Она смотрит на обросшие седой щетиной скулы старика, на его сиренево-бледные губы; когда он их раскрывает, так и зияет щель между нижними желтыми зубами. Тамара жалеет старика, и ей хочется как-то утешить его. Но Палашин, глянув в окно, вдруг шепеляво говорит:
— Тут еще… Молод, а до работы завистливый…
Тамара догадывается, о ком говорит старик, но все равно вглядывается в запотевшее и обрызганное дождинками окно и спрашивает:
— Вадим Станиславович? Работа его такая, врачебная, всегда тут допоздна.
Тамара делает безразличное лицо, а сама, чувствуя какое-то внутреннее смятение, напряженно думает: «И чего не уходит? Нехорошо все это…»
На крыльце, все еще покуривая, стоит Вадим Станиславович. Из окна палаты его хорошо видно. Он уже не в халате, значит, кончил работать; на нем толстый черный свитер с белыми полосами поперек груди. Молодой врач приземист, широк в плечах и весь