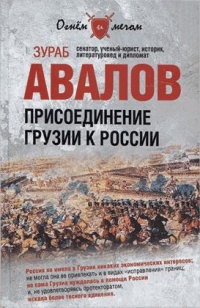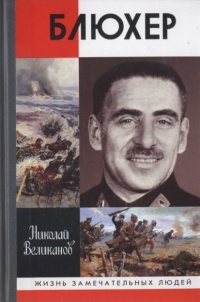— Не забывай, ты — человек, а человек жив Господом: Бог возвышает тебя, а умаляя себя, ты потакаешь дьяволу. Жизнь человека — повседневная борьба с дьяволом, мы не должны унижать и губить себя.
Они посидели и поговорили. Хахам Абрам в основном вел разговор о невзгодах жизни царя Давида. А вечером вдвоем отправились в синагогу. Занкана встретили как обычно — никто не прятал глаз, все вели себя так, словно ничего не случилось. По окончании молитвы, выходя из молельни, жали ему руку, желали спокойной ночи. И лишь Бено Какитела и Иорам Базаза задержались возле него. Бено долго не выпускал из своих руку руку Занкана.
— Надеюсь, ты в порядке, дорогой Занкан, это так?! — Ирония, звучавшая в его словах, больно отозвалась в сердце Занкана, но это была ерунда в сравнении с тем, что последовало далее. — Увы, мой Занкан, увы, какая замечательная у тебя еврейская семья, и дочь какая необыкновенная! — Он собирался было отойти от Занкана, как Иорам Базаза ухватил его за локоть, остановил. Бено погрузил руку в бороду и медленно протянул: — Занкан, ты человек мудрый, знаешь Тору, нусхури[19], наверняка ты помнишь, какой мудрец сказал: жизнь что лестница, кто-то поднимается, кто-то спускается?
Занкан покачал головой: нет, не помню. А Бено Какитела с лукавым выражением на лице смотрел на Занкана, который пытался сдержать рвущуюся наружу ироничную улыбку.
— Чего не хочешь, того не помнишь, да? — ввернул свое слово Иорам.
— Желаю вам спокойной ночи, — и Занкан повернулся к ним спиной.
Выйдя в дверь молельни, Иорам возмущенно говорил верующим: гордец этот ваш Занкан Зорабабели, даже не пожелал разговаривать с нами. Люди слушали и кивали ему, молча соглашаясь.
С этого дня Занкан оставался в молельне после молитвы и вел долгие беседы с хахамом Абрамом.
Эти беседы вернули его к самому себе, к нему возвратилась способность действовать.
Как-то после утренней молитвы Занкан возвращался домой. Любуясь фазанами, сгрудившимися у ручейка вдоль дороги, он почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Не оборачиваясь, проследил за полетом фазанов, вспугнутых чем-то и с криками опустившихся на берег Куры, и боковым зрением увидел всадника на коне. Баха Опимари широко улыбался Занкану. Соскочив с коня, он поспешил ему навстречу, приложился к плечу.
— Давно же мы не виделись с тобой, — с укором произнес улыбающийся Занкан, — не показываешь своих картин!
— Дом Опимари всегда открыт для Зорабабели! Да хоть сейчас поехали, посмотрим!
— Поехали!
Они миновали Петхаин, спустились в Куре. Кура ярилась, шумела, чайки с криками носились над мутной водой. Они вошли в наполненную светом мастерскую Бахи.
Занкан бывал здесь неоднократно. В петхаинском доме и в Арагвиспира у него висело несколько работ Бахи вместе с картинами, привезенными из Константинополя. Мастерская Бахи была хорошо знакома ему, но на этот раз только он вошел, как им овладело странное благостное чувство. Он не сразу понял, откуда оно взялось, но, осмотревшись, увидел новую работу Бахи — портрет царицы Тамар в царском одеянии, от которого исходила какая-то завораживающая духовность. Как зачарованный смотрел Занкан на лицо царицы, осененное Божественным лучом. Исходивший от нее покой воспринимался как сила, рождающая веру.
Занкан опустился на тахту и, сощурившись, смотрел на работу, возвышающуюся почти до самого потолка.
— Ты придал глазам царицы удивительный взор, — наконец произнес он, — впрочем, что взор, ты из тех мастеров, что дарят царям вечную жизнь. Пройдет время, не станет царицы, не станет и нас, а последующие поколения будут помнить и любить Тамар благодаря улыбке, взгляду, который ты даровал ей.
Он умолк. Снова уставился на портрет. Молчание нарушил Баха.
— Попробуй хотя бы фрукты, — сказал он Занкану. — Знаю, ничего другого в доме христианина ты есть не станешь.
— С удовольствием. Я еще не завтракал.
Баха вынес блюдо с фруктами. Занкан взял грушу, и в это время в поле его зрения попала картина, на которой был изображен юноша. Небольшая работа боком стояла возле портрета Тамар, как бы пытаясь укрыться за полой платья царицы. Занкан подошел и поставил полотно так, чтобы можно было лучше рассмотреть его: лицо юноши было исполнено печали. Печаль была настолько ощутима, казалось, она затягивала тебя.
— Молодой человек с умным взглядом, но почему столько боли и скорби? — спросил Занкан.
Баха ответил не сразу. Он, в свою очередь, смотрел на портрет юноши так, словно увидел его впервые.
— Он был моим другом, — сказал он погодя.
— Был?
— Его нет с нами.
Сердце у Занкана вдруг забилось.
— Я не узнаю его, кто это? — В голосе его чувствовалось волнение.
Выразительное молчание, последовавшее затем, убедило его в том, что догадка его верна. И Баха, похоже, все знал.
— Это Ушу, батоно Занкан, Ушу, сын Саурмага, — наконец сказал Баха, но Занкану и так все было ясно.
«Ушу, Ушу, Ушу, Саурмаг, Саурмаг… Ушу, сын Саурмага! — набатом звучало у него в голове, сам же он сидел, замерев, плотно сжав губы. — Человек, перевернувший мою жизнь, это из-за него все пошло кувырком», — продолжал звучать набат, и его звон принес с собою мысль, которую Занкан так тщетно искал для себя. Вот она — явилась вслед за тревожным звоном колокола, звучавшим у него в голове! Занкан был не тем человеком, кто легко принимает решение — он должен все осмыслить, взвесить, проверить. А тут он принял решение мгновенно и, не колеблясь, сказал:
— Это полотно должно принадлежать мне, — он указал рукой еще на одно, — и это тоже, они мне нужны, Баха!
Бачева полулежала на тахте, уставившись в потолок. Платье на ней задралось, оголив бедра, из-за расстегнутого лифа выглядывала грудь. Когда Эуда вошел в комнату с картинами в руках, она даже не шевельнулась. Люди входили в ее комнату, выходили — Бачева этого не замечала.
Взгляд Эуды воровато скользнул по обнаженной груди девушки, ее чувственным бедрам. У Эуды перехватило дыхание. Показалось, комната поплыла перед глазами. Он остановился, зажмурился, но продолжал видеть грудь и бедра Бачевы. Эуда открыл глаза, поставил картины у стены и вышел вон. Занкан ждал его за дверью. Эуда взял следующие две работы.
— Постой! — остановил его Занкан.
Эуда остановился. Занкан бесстрастно оглядел работы, которые парень держал в руках. На одном из полотен раскинулось безбрежное изумрудное поле. Шаловливый ветерок ерошил траву. Казалось, полю нет конца и края. Далеко на горизонте стояло отягченное плодами пестрое дерево. Эта картина говорила Занкану о бесконечности мира, о том, как много нужно работать, учиться, проливать пот, чтобы сорвать желанный плод. Бывало, глядя на картину, он размышлял о третьем дне творения. «Наверное, такими вот были первозданная твердь и первозданные воды, наверное, также дышала и колыхалась изумрудная трава. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод… И стало так». Проведя какое-то время наедине с этой картиной, он обычно предавался молитвам.