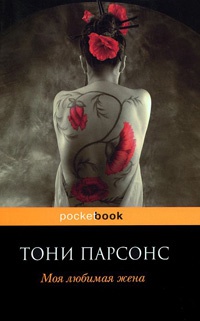Со временем мы ассимилировались, перестали походить на многочисленных туристов и усвоили взгляд на мир, свойственный истинным пражанам. Мы стали постоянными клиентами некоторых заведений и познакомились с их хозяевами, но в первую очередь облюбовали кафе «Флориан», которым заправляли два чеха, говорившие по-английски с американским акцентом.
Постоянными клиентами «Флориана» были люди весьма разнообразные — космополитическое собрание гениев, сидевших кучками на диванах и тихим шепотом обсуждавших грядущие шедевры. Об искусстве говорили постоянно, о политике — никогда. Иной раз в одной из групп возникал жаркий спор, участники которого явно искали поддержки у других посетителей.
Жан, франкоговорящий официант из Югославии, выросший в Варшаве, — он так и не поведал нам, как сложилась настолько странная комбинация, — выступал главным арбитром в подобных спорах; в свободное от обслуживания клиентов время он сочинял стихи, которые от случая к случаю публиковали в журналах. Кажется, в заведении он был единственным печатающимся автором, а потому его мнение имело большой вес.
Жан взял себе за правило никогда не заговаривать с посетителями, если только их спор не нарушал покоя и не требовал вмешательства судьи. Он мудро культивировал свою отстраненность, а заодно и таинственность, демонстрируя их потенциальным подателям чаевых.
Некоторое время спустя остальные посетители кафе перестали нас замечать, поскольку мы редко участвовали в спорах и еще реже присоединялись к группам на диванах. Оно и к лучшему: по правде говоря, мы очень радовались возможности посидеть в одиночестве, поболтать друг с другом, высказать собственное мнение на предмет, столь страстно обсуждавшийся рядом с нами.
Мне нравилось беседовать с Эриком. В те вечера, что мы провели, уютно устроившись в пурпурных бархатных креслах в тихом уголке кафе, я многое узнал о его взглядах — а они были достойны того, чтоб с ними ознакомиться. О моих он, вероятно, узнал меньше, поскольку меньше было таких, которые заслуживали внимания, однако Эрик обладал удивительным даром делать своих друзей интересными, в том числе для самих себя, и он сумел извлечь меня из моей скорлупы, а это прежде не многим удавалось.
Он расспрашивал меня об Оксфорде, о Моих родителях, о музыке. И слушал с видом сочувственного понимания, когда я рассказывал о своих путаных, но искренних попытках освободиться от необходимости следовать по пути, уготованному для меня семьей, попытках определить собственное место в мире и занять его, независимо от их влияния и предрассудков.
— Ты… настоящий человек, Джеймс, — сказал он мне однажды вечером (мы сидели во «Флориане», при тусклом свете, в сигаретном дыму). — Я восхищаюсь тобой и тем, что ты хочешь жить по-своему. Не все на это способны.
А я подумал об Элле, мы оба надеялись «жить по-своему», интересно, что готовит нам будущее? Я улыбнулся Эрику в благодарность за то, что он навел меня на эти счастливые мысли.
— Ты рад, что приехал сюда? В Прагу?
Я кивнул:
— Очень рад.
— Думаю, потом мы будем вспоминать нашу здешнюю жизнь как самое счастливое время своей жизни, Джеймс.
— Я в этом уверен.
Видя, что стакан Эрика пуст, я попросил Жана принести еще два джина, тот выполнил заказ расторопно, с улыбкой, которой вознаграждал самых достойных своих клиентов. Мне было приятно.
Несколько минут мы сидели молча, погруженные в свои мысли, а потом я спросил Эрика о его семье: я вдруг сообразил, что о родных он мало что рассказывал. Я знал только, что он старший из двоих детей и происходит из семьи сельских дворян, на протяжении нескольких веков владевших замком Вожирар и окрестными землями.
— Какая у меня семья? — повторил Эрик мой вопрос. — Какие они? — Он помолчал. — Я расскажу тебе, Джеймс, какие они. А однажды, быть может, ты с ними познакомишься и составишь собственное суждение.
Английский Эрика, превосходный и в самом начале нашего знакомства, с тех пор еще улучшился. Он выработал собственный стиль, взвешенную манеру разговора, которая придавала его речи приятную серьезность и внушала доверие аудитории.
— Моя сестра, — начал он наконец, тщательно подбирая слова, — младше меня на два года. Ее зовут Сильви, она очень красива, но не так умна…
— …как ты, — закончил я за него, поддразнивая.
— Нет. Она не так умна, как могла бы быть.
— А почему так?
— Она не подвергает явления сомнению, Джеймс, а умный человек должен это делать. Вот ты, скажем, сомневаешься. А она просто принимает все как должное.
— Например?
— Ну, не знаю. Всё. Ее жизнь развивается согласно плану, начертанному для нее кем-то другим. Сильви счастлива замужем. Живет она поблизости от моих родителей, в Вожираре (семья Эрика по-прежнему обитала в деревне и возделывала окрестные поля, а замка они давно уже лишились), и вяжет носки для солдат Иностранного легиона. Очень надежное и очень ограниченное, тихое существование. — В голосе Эрика слышалось необычное для него презрение.
Меня это удивило.
— Сильви — истовая католичка, — продолжал мой друг. — Утро она проводит в молитве, дни — в исполнении семейных обязанностей, ночи — в исполнении обязанностей супружеских… У нее будет много детей, — добавил он с кривой ухмылкой.
— Вы с ней ладите? — осведомился я, подозревая заранее, каков будет ответ.
— Вполне. Но это ради родителей. Мы просто не говорим на темы, обсуждение которых может привести к спору или конфликту.
— Например?
— Ты уже достаточно хорошо знаешь меня, Джеймс, и понимаешь, о чем речь…
Возникла неловкая пауза, на протяжении которой я пытался заглушить в себе голос вежливости, подсказывавший, что расспрашивать далее — значит совать нос в чужие дела. Но трудно переломить привычки, сложившиеся на протяжении всей жизни, и, вместо того чтобы попытаться разговорить друга, я сделал Жану знак, чтобы тот принес еще джина.
В отличие от Эрика, я не делал активных попыток добиться от других откровенности. Элла возбудила во мне аппетит к исповедям, но я по-прежнему вел себя осторожно. У меня до сих пор сохранился неотчетливый страх перед эмоциональной близостью, которая может слишком далеко завести, полагаю, он объясняется тем, что английская система привилегированного воспитания учит нас подавлять свои чувства и вести себя сдержанно. Мне не нравилось слишком близко соприкасаться с глубинными, потаенными сторонами человеческой природы. И по-прежнему не нравится. Я готов выслушать признание, но редко побуждаю к откровенности.
С Эллой любовь и желание делали меня бесстрашным, и я наслаждался ее откровенностью, но с Эриком все было по-другому, и я осторожничал. Мне хотелось считать людей такими, какими они казались. От чужих страхов и тревог меня бросало в дрожь — быть может, потому, что, признавая существование темных сторон в окружающих, я бы должен был двинуться дальше и признать их в себе. Не знаю.