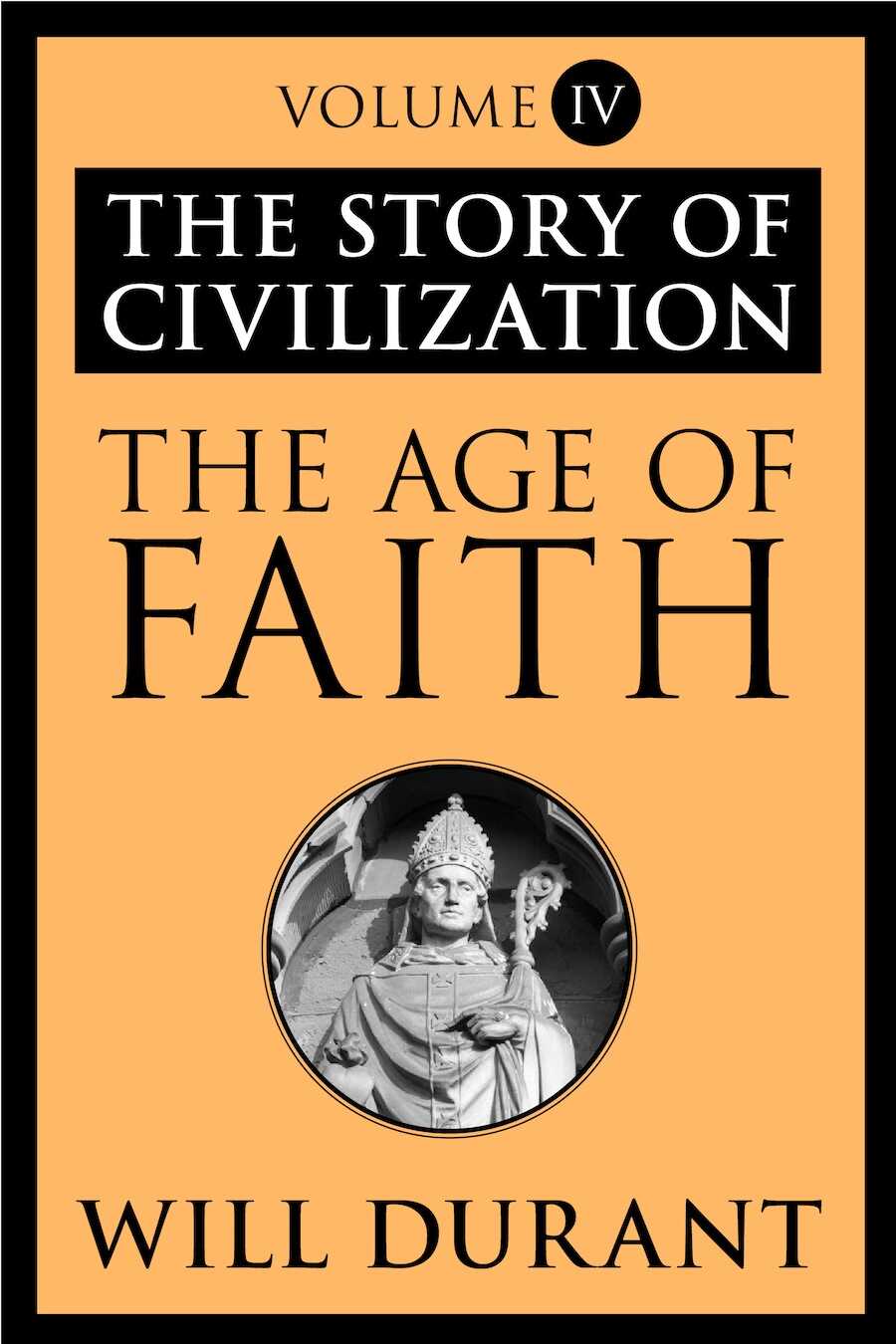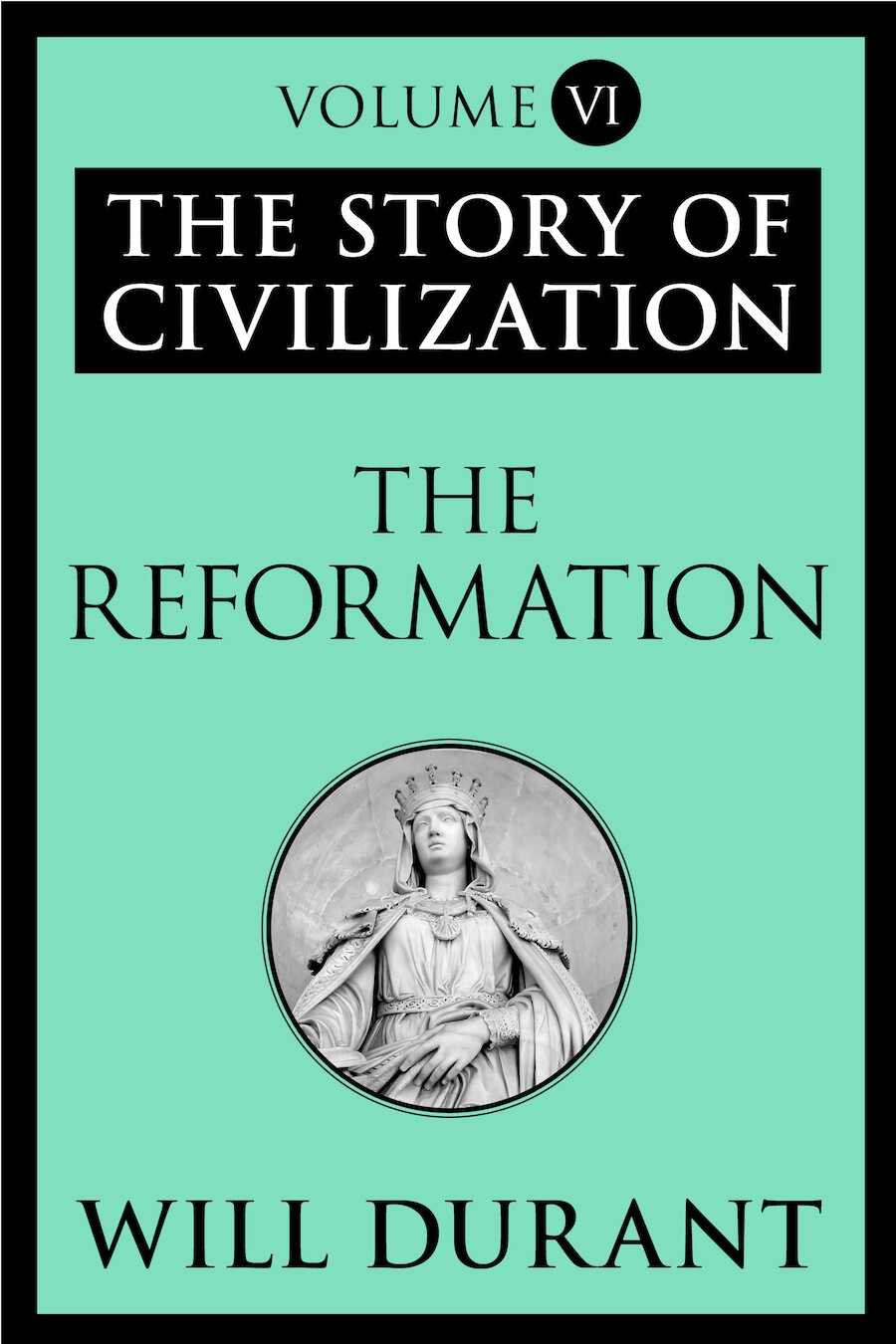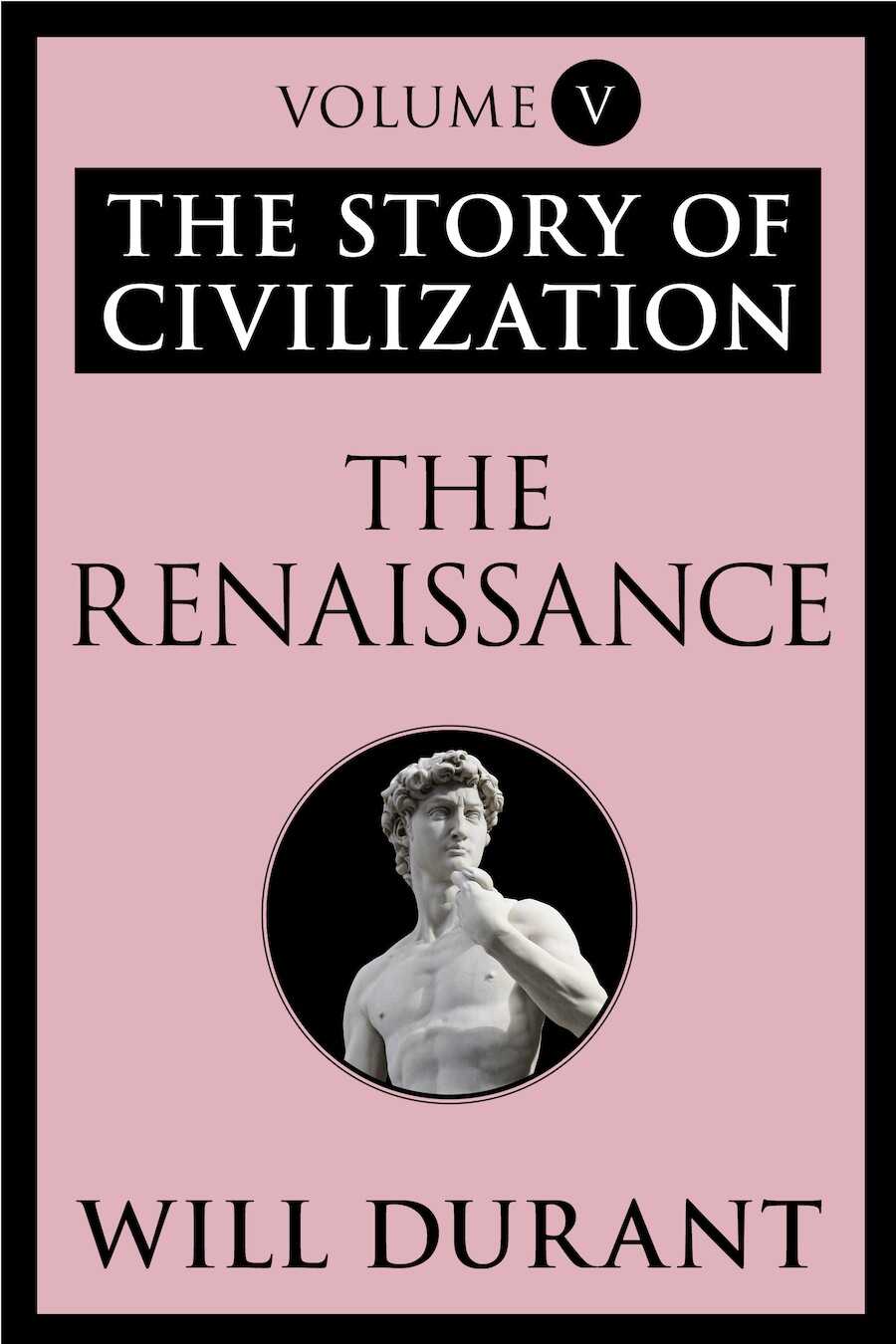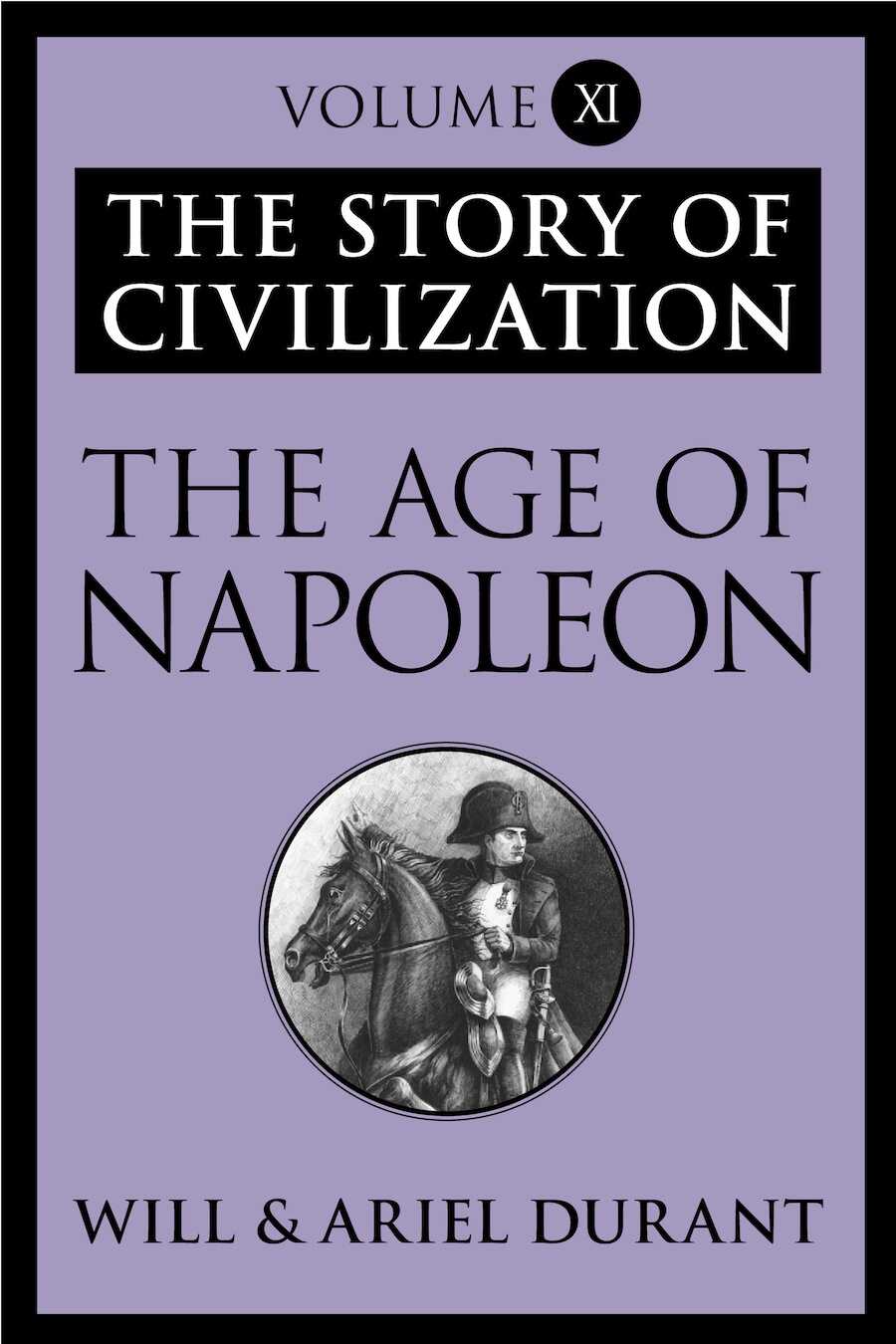избранных и проклятых. В то же время, когда он стимулировал умственных людей, он стал вдохновением для тех, чье христианство было скорее сердечным, чем головным; мистики пытались повторить его шаги в поисках видения Бога; мужчины и женщины находили пищу и фразы для своего благочестия в смирении и нежности его молитв. Возможно, секрет его влияния в том, что он объединил и укрепил как философские, так и мистические направления в христианстве и открыл путь не только для Фомы Аквинского, но и для Фомы Кемпийского.
Его субъективный, эмоциональный, антиинтеллектуальный акцент ознаменовал конец классической, триумф средневековой литературы. Чтобы понять Средневековье, мы должны забыть наш современный рационализм, нашу гордую уверенность в разуме и науке, наши беспокойные поиски богатства и власти, земного рая; Мы должны сочувственно проникнуть в настроение людей, разочаровавшихся в этих занятиях, стоящих на пороге тысячелетнего рационализма, обнаруживших, что все мечты об утопии разбиты войной, нищетой и варварством, ищущих утешения в надежде на счастье за гробом, вдохновленных и утешенных историей и образом Христа, уповающих на милосердие и доброту Бога и живущих мыслями о Его вечном присутствии, Его неотвратимом суде и искупительной смерти Его Сына. Святой Августин, как никто другой, и даже в эпоху Симмаха, Клавдиана и Авсония, раскрывает и формулирует это настроение. Он — самый подлинный, красноречивый и сильный голос эпохи веры в христианстве.
VI. ЦЕРКОВЬ И МИР
Аргумент Августина против язычества стал последним опровержением в величайшем из исторических споров. Язычество сохранилось в моральном смысле, как радостное потворство естественным аппетитам; как религия оно осталось только в виде древних обрядов и обычаев, которым потворствовала, или принимала и преобразовывала, часто снисходительная церковь. Интимное и доверительное поклонение святым заменило культ языческих богов и удовлетворило конгениальный политеизм простых или поэтических умов. Статуи Изиды и Гора были переименованы в Марию и Иисуса; римские Луперкалии и праздник очищения Изиды стали праздником Рождества Христова;99 Сатурналии были заменены рождественскими праздниками, Флоралии — Пятидесятницей, древний праздник мертвых — Днем всех душ,100 воскресение Аттиса — воскресением Христа.101 Языческие алтари были заново посвящены христианским героям; ладан, огни, цветы, процессии, облачения, гимны, которые радовали людей в старых культах, были одомашнены и очищены в ритуале Церкви; а суровое заклание живой жертвы было возвышено в духовной жертве Мессы.
Августин протестовал против поклонения святым, причем в выражениях, которые мог бы использовать Вольтер, посвящая свою часовню в Ферни: «Не будем относиться к святым как к богам; мы не хотим подражать тем язычникам, которые поклоняются мертвым. Не будем строить им храмы и воздвигать им алтари; но с их мощами воздвигнем алтарь единому богу».102 Церковь, однако, мудро приняла неизбежный антропоморфизм народного богословия. Она сопротивлялась,103 затем использовала, затем злоупотребляла культом мучеников и мощей. Она выступала против поклонения образам и иконам и предупреждала своих верующих, что их следует почитать только как символы;104 Но пыл общественных чувств преодолел эти предостережения и привел к эксцессам, которые возбудили византийских иконоборцев. Церковь осуждала магию, астрологию и гадания, но средневековая, как и античная, литература была полна ими; вскоре люди и священники стали использовать крестное знамение в качестве магического заклинания, чтобы изгнать или прогнать демонов. Над кандидатом на крещение произносили заклинания экзорцизма, и требовалось полное погружение нагишом, чтобы дьявол не спрятался в какой-нибудь одежде или украшении.105 Исцеления от снов, которые когда-то искали в храмах Эскулапия, теперь можно было получить в святилище святых Космы и Дамиана в Риме, а вскоре их можно будет получить в сотне святилищ. В таких делах не священники развращали народ, а народ убеждал священников. Душа простого человека может быть тронута только чувствами и воображением, церемониями и чудесами, мифами, страхом и надеждой; он отвергнет или преобразит любую религию, которая не дает ему этого. Естественно, что среди войны и запустения, нищеты и болезней испуганный народ должен был найти убежище и утешение в часовнях, церквях и соборах, в мистических огнях и ликующих колоколах, в процессиях, праздниках и красочных ритуалах.
Уступая этим народным потребностям, церковь получила возможность прививать новую мораль. Амвросий, всегда бывший римским администратором, попытался сформулировать этику христианства в стоических терминах, обратив Цицерона в свою веру; и в великих христианах Средневековья, от Августина до Савонаролы, стоический идеал самоконтроля и бескомпромиссной добродетели лег в основу христианской формы. Но эта мужская мораль не была идеалом народа. Стоики были у них уже достаточно давно, мужские добродетели воплощались в жизнь по всему миру; они жаждали более мягких, спокойных путей, с помощью которых можно было бы убедить людей жить в стабильности и мире. Впервые в европейской истории учителя человечества проповедовали этику доброты, послушания, смирения, терпения, милосердия, чистоты, целомудрия и нежности — добродетели, возможно, обусловленные низким социальным происхождением церкви и популярностью среди женщин, но прекрасно приспособленные для восстановления порядка в де-морализованном народе, укрощения мародерствующих варваров, усмирения насилия падающего мира.
Реформы Церкви были наиболее значительными в сфере секса. Язычество терпело проститутку как необходимое смягчение тягостной моногамии; Церковь осудила проституцию без компромиссов и потребовала единого стандарта верности для обоих полов в браке. Она не совсем преуспела; она подняла нравственность дома, но проституция осталась, загнанная в угол и деградация. Возможно, чтобы уравновесить разбушевавшийся сексуальный инстинкт, новая мораль преувеличила целомудрие до навязчивой идеи и подчинила брак и родительство пожизненной девственности или безбрачию как идеалу; и отцам Церкви потребовалось некоторое время, чтобы понять, что ни одно общество не сможет выжить на таких бесплодных принципах. Но эту пуританскую реакцию можно понять, если вспомнить разнузданность римской сцены, школы проституции в некоторых греческих и восточных храмах, широко распространенные аборты и детоубийства, непристойные картины на помпейских стенах, противоестественные пороки, столь популярные в Греции и Риме, излишества первых императоров, чувственность высших классов, раскрытую в Катулле и Марциале, Таците и Ювенале. Церковь в конце концов пришла к более здравому мнению и со временем стала снисходительно относиться к грехам плоти. Тем временем был нанесен определенный ущерб концепции родительства и семьи. Слишком многие христиане первых веков думали, что смогут лучше всего послужить Богу или, скорее, легче всего избежать ада, бросив своих родителей, супругов или детей и убежав от ответственности за жизнь в испуганном стремлении к эгоистичному индивидуальному спасению. В язычестве семья была социальной и религиозной единицей; в