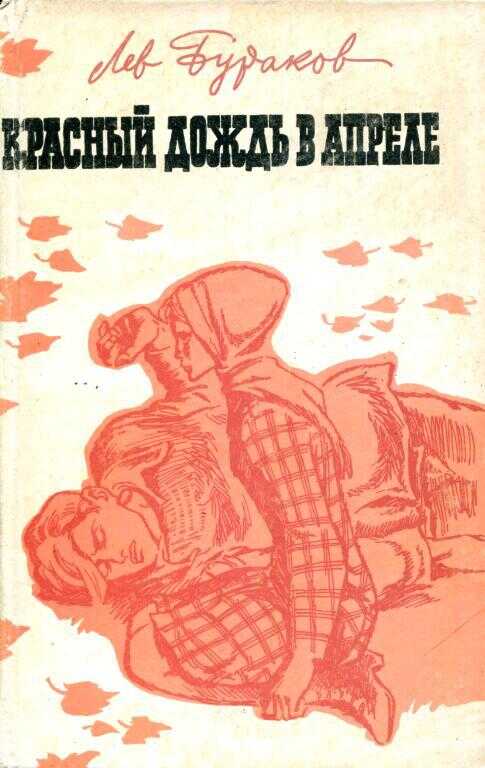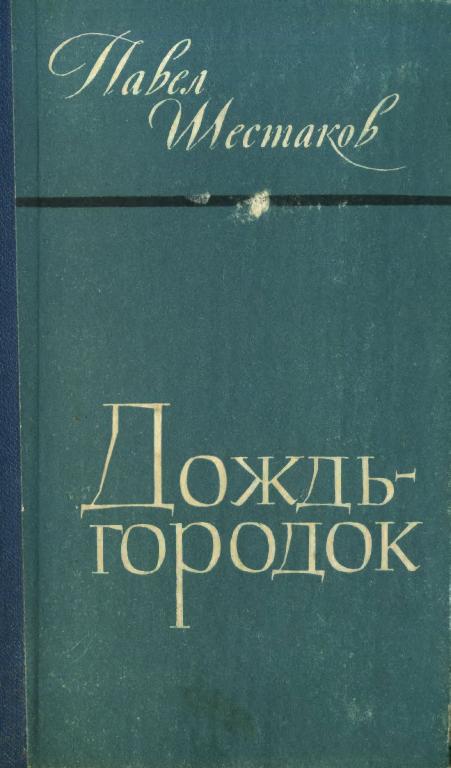Что ждет впереди?
Белые и черные пятна пляшут перед глазами. Я ослеп и оглох, меня несет куда-то вихрь мыслей. Пошатнувшись, испуганно оглядываюсь. Посетители кучками стоят у гравюр, говорят вполголоса. У окна — столик с книгой. Да это, наверно, книга отзывов. Открываю ее, как чужой дневник.
«Выставкой удовлетворены. В каждой работе — глубокий смысл, выраженный в свежей и прочувствованной манере. От души желаем художнице новых творческих успехов!
Студенты IV курса Политехнического института»
«Восхищен, ошеломлен! Но почему так много трагичного? Вряд ли это характерно для наших героических будней. Тем не менее, восхищен.
Йонас Бурбулис»
«Куда идут наши советские художники? Человека, того Человека, которого Горький писал с прописной буквы, художники искажают, уродуют его облик или изображают в таком виде, что в приличной компании смотреть стыдно.
Выставленные здесь работы непонятны, хотя их автор — женщина.
К. Ламб…»
«Ура! Ты молодцом, Нора!
Твой С. Т.»
Интересно, читала ли мама. Каждое обидное слово для нее как плевок в лицо. Она болезненно чувствительна, все принимает близко к сердцу. Как-то она решила сделать портрет отца. Это было давно, года два назад. Отец отнекивался, мама уговаривала. В конце концов отец уступил, долго причесывался перед зеркалом, повязал галстук.
— Зачем? Будь таким, как всегда… Как бы забылся за работой…
— Раз уж взялась, то делай, как надо. Все увидят.
Отец сидел как на параде — степенный и праздничный.
— Ты чем-нибудь займись, ну, книжку почитай.
— Нет, нет, я потерплю.
Он «терпел» день, другой, третий. Мама делала наброски карандашом, потом взяла лист линолеума, резцы. Отцу не показывала. «Вот кончу, тогда», — сказала она. А я поглядывал украдкой, я любил следить за тем, как ее рука медленно и аккуратно вырезает борозды и тонкие прожилки, убирает большие пятна. Несколько вечеров она трудилась над листом, еще раз просила отца позировать, а потом сказала: «Все!» Принесла оттиск, вставила под стекло, повесила на стену. Отец долго смотрел на гравюру.
— Ну как? — мама ласково прильнула щекой к его плечу.
Отец помолчал. Потом повернулся и горько рассмеялся:
— Не я. Не узнаю. Не знаю кто, но точно не я…
Мама села, опустила голову и, печально улыбаясь, уставилась в пол.
— Это не я! Слышишь — не я! — злорадствовал отец.
Что же ему не понравилось? Сочетание черных и белых пятен, которыми изображено было угловатое лицо, широкий лоб и глубоко запавшие глаза, как бы обращенные в себя? А может, то, что не видно ни аккуратной прически, ни галстука?
— Сколько времени ухлопал…
Мама не ответила. Она не умела объяснять своих работ. Она не умела их защищать. Мучительно улыбнулась, сняла со стены портрет и сунула его за шкаф.
Книга отзывов жжет мои руки.
«Будь верна себе и верь в себя. Это — главное.
Твои коллеги»
Может, и мне написать? Что-нибудь хорошее-хорошее. Она ведь узнает мой почерк. Что же написать, какие слова?
Я чувствую на себе чей-то взгляд и боюсь повернуть голову, оглянуться.
Что же мне написать?
— Арунас…
Моей головы коснулась легкая рука.
— Арунас.
Она стоит рядом — маленькая и хрупкая, как девочка.
— Как хорошо, что ты приехал, Арунас. Что пришел сюда. Я все думала… думала…
Она не говорит, что думала, но она меня ждала, я знаю.
— Смотрел?
— Да.
— Понравилось?
— Мгм.
— А что больше всего?
— Все. «Раскрепощение».
Почему я чувствую себя перед ней, как перед учительницей? Нет, я так чувствовал себя перед учительницей давным-давно… Мама кажется мне неземной, как бы сошедшей со своего триптиха. Могущественной и величственной.
Она ведет меня куда-то, и я иду. Я послеушен, как четырехлетний мальчик, который, даже если его отругать, говорит: «Спасибо».
— Зайдем, Арунас.
Поднимаюсь за ней по лестнице, держась рукой за захватанные перила. Если б не перила, вряд ли я забрался бы так высоко.
Звякают ключи (ее квартиры!), открывается дверь (ее квартиры!).
Она входит первой и негромко говорит:
— Прошу, Арунас.
Я смотрю на стоптанный порог.
— Нора! — доносится из комнаты голос. — Ты так быстро…
Железные пальцы хватают меня за горло, я задыхаюсь. Как это я не подумал?! Надо же было знать, куда я иду.
Я смотрю на маму. Она уже не та, что на выставке, в мире, созданном ею самой. Теперь она другая. Она совсем другая…
— Нора…
Я делаю шаг назад и, словно меня подтолкнули, с грохотом сбегаю по ступенькам.
— Арунас!
В лестничной клетке мечется мамин голос.
На Лайсвес аллее шуршат под ногами грязные липовые листья.
За забором мелькают качели, скрипят перекладины стенок, мчится карусель, звенят детские голоса.
— Саулюс!
Он не слышит. Лег за песочницей; в руках палка, стреляет. Та-та, та-та! Его враги — две девчушки, которые и не подозревают, что по ним стреляют.
— Саулюкас!
Саулюс вскакивает и бежит к девчушкам.
— Я вас застрелил! И тебя застрелил, и тебя! Падайте!
— Дурной, — говорит одна.
Саулюс стоит, смотрит на свое ружье. Потом с размаху швыряет его под забор.
— Са-аулюс!
Заметил-таки меня — приближается, надув губы.
— Я не хочу в садик, мне не нравится, вот!
— Почему?
— Я с тобой хочу.
— Со мной?
— В Вильнюс хочу, к папе. И с тобой.
Я облокачиваюсь на забор. Саулюс, подняв голову, смотрит на меня, его замурзанная мордашка печальна.
— Я с тобой хочу, Арунас.
Он был привязан ко мне, и я любил его. Я люблю его по-прежнему, конечно, но сейчас мне кажется: кто-то посягнул на наши отношения, чьи-то пальцы оборвали невидимые ниточки, связывавшие нас воедино, и мы медленно расходимся. Когда Саулюс родился, мне было девять лет, и я сразу же понял, что мое положение в семье круто изменилось. Все внимание — Саулюсу, ласковые слова — Саулюсу, лакомые кусочки — Саулюсу. А мне что? «Посиди с Саулюкасом и смотри, чтоб не плакал». Я толкаю коляску, Саулюс тихо посапывает. Но не успевает мама уйти, как он закатывает такой концерт, что деваться некуда. «Не смотришь за ребенком… Не любишь братика», — твердят мне без конца, а я целыми часами нянчу его и думаю, как бы развязаться с этой «бедой». Как-то я даже кран у плиты открутил. Решил в комнату газа напустить — чуть-чуть, чтоб Саулюс заснул наконец. Я — большой, мне ничего не будет, я успею закрутить кран. Газ шипел, в комнате уже слышался сладковатый запах. Я то и дело бегал на кухню — может, уже хватит? Нет, еще. Еще чуточку. Саулюс лежал в комнате, в коляске, и все равно ревел, сучил голыми ножками. «Сейчас ты у меня замолчишь!..» — сказал я; вдруг