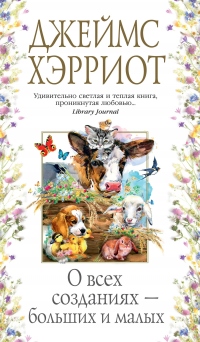матери, что будет так, ей придется с этим смириться. Все можно сделать на добровольной основе, не меняя твоего правового статуса, без геморроя.
Когда они наелись, Уиндем отвез его домой, мать еще не вернулась из больницы. Из его комнаты пропали трусы. Даже сквозь боль и в такой неразберихе она сообразила, что нужно от них избавиться. Одурела, как ебаный дикий кабан. Хитрость почище лисьей: она бы этих лисиц на завтрак жрала. Он стянул с кровати простынь, улегся на одеяле. Включил радио. Ночной нью-йоркский эфир Вина Скелсы – Allman Brothers, потом The Band, о’кей, но потом поставили Pink Floyd – биение сердца, мужской смех, женский крик, и он перевернулся и выключил радио. Стало тихо, он лежал на спине в темноте. Ветер трепал ветви дубов за окном, они скреблись по крыше, и желтый уличный фонарь отбрасывал бледные тени на потолок и стены, тени трепещущих листьев, похожих на кающихся грешников в ритуальном танце.
Он много чего рассказал Анне, не все, конечно же, и этого хватит. Удержаться было нелегко, он помнил все до последней детали, каждое мгновение, каждый образ, голова кишела ими, словно крысами.
Она умерла от рака печени, еще до того, как в июне он закончил учебу. В последние несколько месяцев у нее раздулся живот, она вся пожелтела, и у нее развилось что-то вроде токсической деменции из-за циркулирующего в крови аммиака… Он не жил с ней, у него была комната на цокольном этаже, с ультрафиолетовой лампой, лавовой лампой, плакатом Хендрикса, комната, покинутая поступившим в колледж братом его друга Уильяма, чья семья жила у воды. Он навещал ее урывками. Отдавал себе отчет – с ужасом, безысходностью – в том, что бросил ее. Она умерла довольно быстро. О ее последних неделях он расскажет ей как-нибудь в другой раз. В конце концов, она больше не могла говорить: просто умоляюще смотрела на него большими глазами. В наследство от нее ему досталось то, что он долго не мог понять женщин своего возраста с их неуверенностью, противоречивыми идеями и неотъемлемым страхом, воспринимая все это как отказ. Изначально и почти до конца его сильнее всего влекло к женщинам, что были намного опытнее, и чем опытнее, тем лучше. Об этом Анне он не сказал. Она не расплакалась, но смахнула несколько слезинок. Поцеловала его: да, его плечи, грудь, в губы, легко, и он почувствовал вкус соленых, холодных высохших слез и тепло ее влажных губ.
– Мне очень жаль, – проговорила она. Теперь ее голова покоилась на его груди. – Так жаль.
– Спасибо. Удивляюсь тому, насколько все это невероятно – вот так взять и поделиться с кем-то. Типа: ого, вот это айсберг, когда эхолот включаешь.
У нее вырвался хриплый смешок.
– Спасибо, что поделился со мной. – Голос звучал глухо, она говорила прямо в его грудную мышцу. Они так и не оделись. Разумеется, у него встал, и, конечно же, они снова соединились: медленно, задевая друг друга, как простыни на веревке, колышимые ветром, до конца, пока оба не выдохлись, хотя ни он, ни она не кончили, и оттого все было еще слаще, еще нежнее, без громкого крещендо.
Они лежали на ее матрасе, на полу, рядом ватное одеяло, на них ничего, на окнах тоже; если подумать, то зрелище было что надо.
– Может, пойдем возьмем по пивку? – предложил он. – Еще не так поздно.
– Конечно, – сказала Анна, медленно отделяясь от его тела.
Они встали, оделись.
– Ты вообще когда-нибудь трусы носишь? – спросила она. – Помню, иногда надевал.
– Почти никогда. Если штаны тонкие или если ночью вспотею, то да.
– А когда сюда шел, не думал, что вспотеешь?
Он посмотрел на нее с забавной улыбкой.
– Я про помощь с переездом, – уточнила она.
– Не знаю. Не помню, о чем думал. – Он засмеялся, и она тоже.
Той ночью они не спали вместе. Вот и все. Матрас на полу был не таким уж удобным. И между ними теперь все было иначе. Попрощавшись с ней, он два часа шел по Бродвею перед тем, как отправиться домой, чувствуя, как преображается оттого, что рассказал ей об этом, переживая прошлое вновь. Перед тем как бросить ее у дверей, на тротуаре, он обнял ее, поцеловал в лоб, в щеки, наконец, в губы и сказал:
– Не помню, откуда это, но «я никогда буду думать не о тебе».
– Боже, что за бред, – сказала она. – Это же вранье! – Она отстранилась. – И почему мужчины столько врут?
– Пытаемся сделать что-то красивое и подарить вам, – ответил он. – Сделать мир куда красивее и лучше. Самим стать красивее и лучше в том большом, красивом мире, что дарим вам. Что-то вроде рыцарства в наш век связей с общественностью.
– Ну, спасибо. Вполне себе милое вранье. Тогда и я скажу кое-что, раз уж такой случай: прощай. Будь сильным и смелым. Ты и правда такой. Пусть так и будет.
– Ты тоже сильная и смелая. А еще добрая, умная и красивая. Так что ты далеко пойдешь.
Она усмехнулась, но чувствовала воодушевление при мысли о будущем – она хотела далеко пойти. Он коснулся ее щеки и уже развернулся, чтобы уйти, но она сказала:
– Стой! – и обняла его, очень крепко.
– Никаких слез, – сказал он.
– Никаких слез, – сказала она.
После они поцеловались еще раз, совсем как у входа в Карман Холл три года назад, только дверь была другая. Как похожи эти два поцелуя, отметил он. Короткие. Было в них что-то, чего тогда он не понимал, но понял теперь. Сейчас, как и тогда, чувство было почти такое же, как от тех поцелуев во сне, о которых он ей говорил, навязчивое чувство, когда тебя снова целуют вот так – так нежно, – и только ей это удавалось, целовать его именно так. Он отложил это осознание на потом, чтобы поразмыслить над ним. Посмотрел на нее, улыбнулся ей легко, скупо, улыбкой, в которой была вся грусть этого вечера, затем повернулся и зашагал прочь.
Величием Господним полон мир…[69] Сколько мыслей высвободилось, стоило ему поделиться с ней. В его голове звучал голос двоюродной бабки, как-то, спустя пару месяцев после смерти матери, до его переезда в Нью-Йорк сказавшей следующее:
– Отец твой, благослови его Господь, знаю, как ты по нему скучаешь, деточка, отец твой, деточка, был святым. Святым был. Сколько ему от матери твоей досталось – прости, но это правда, – сколько он вынес, тебе никогда не узнать. Ты даже не представляешь, деточка. Не хочу, чтобы ты знал. Это