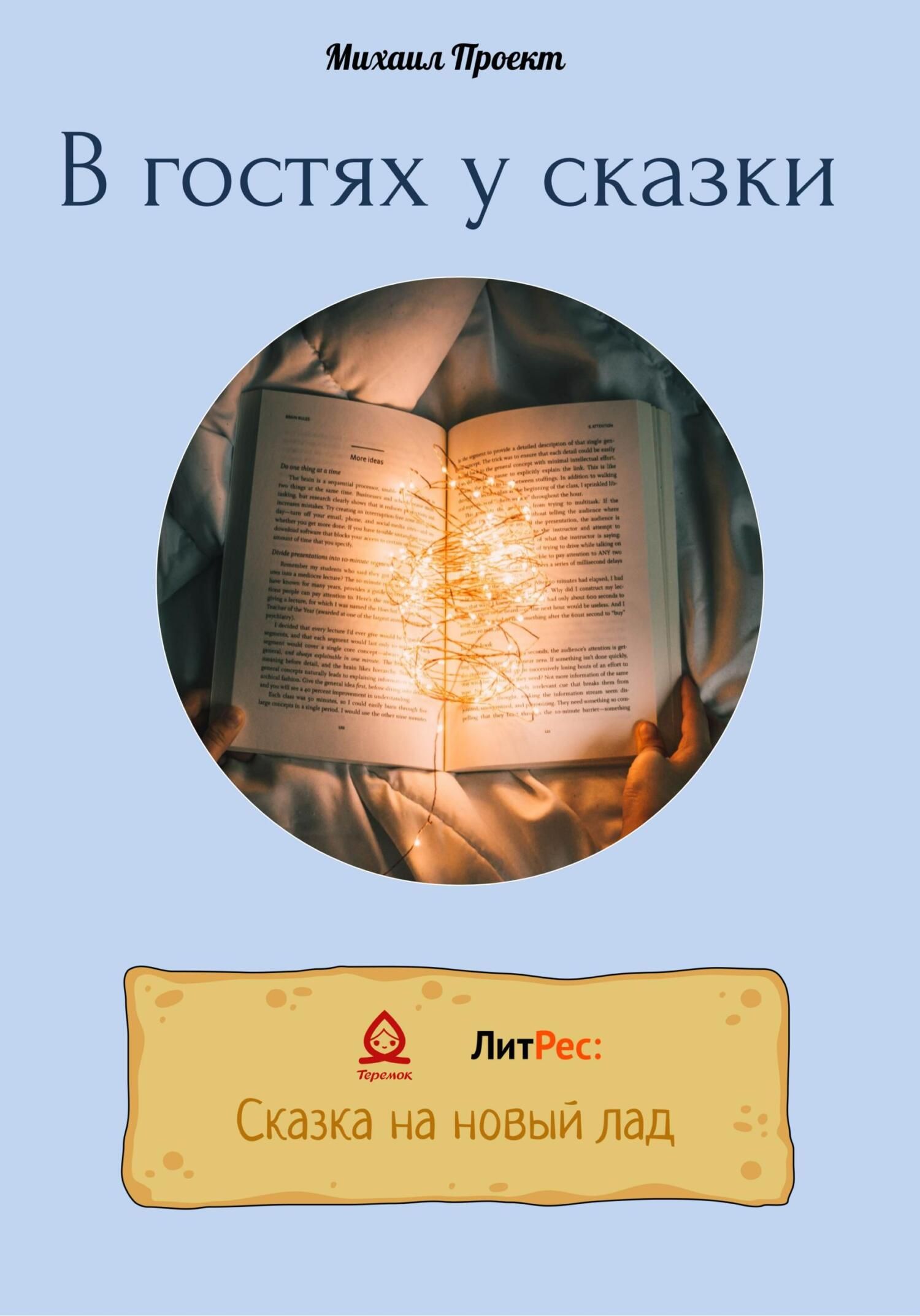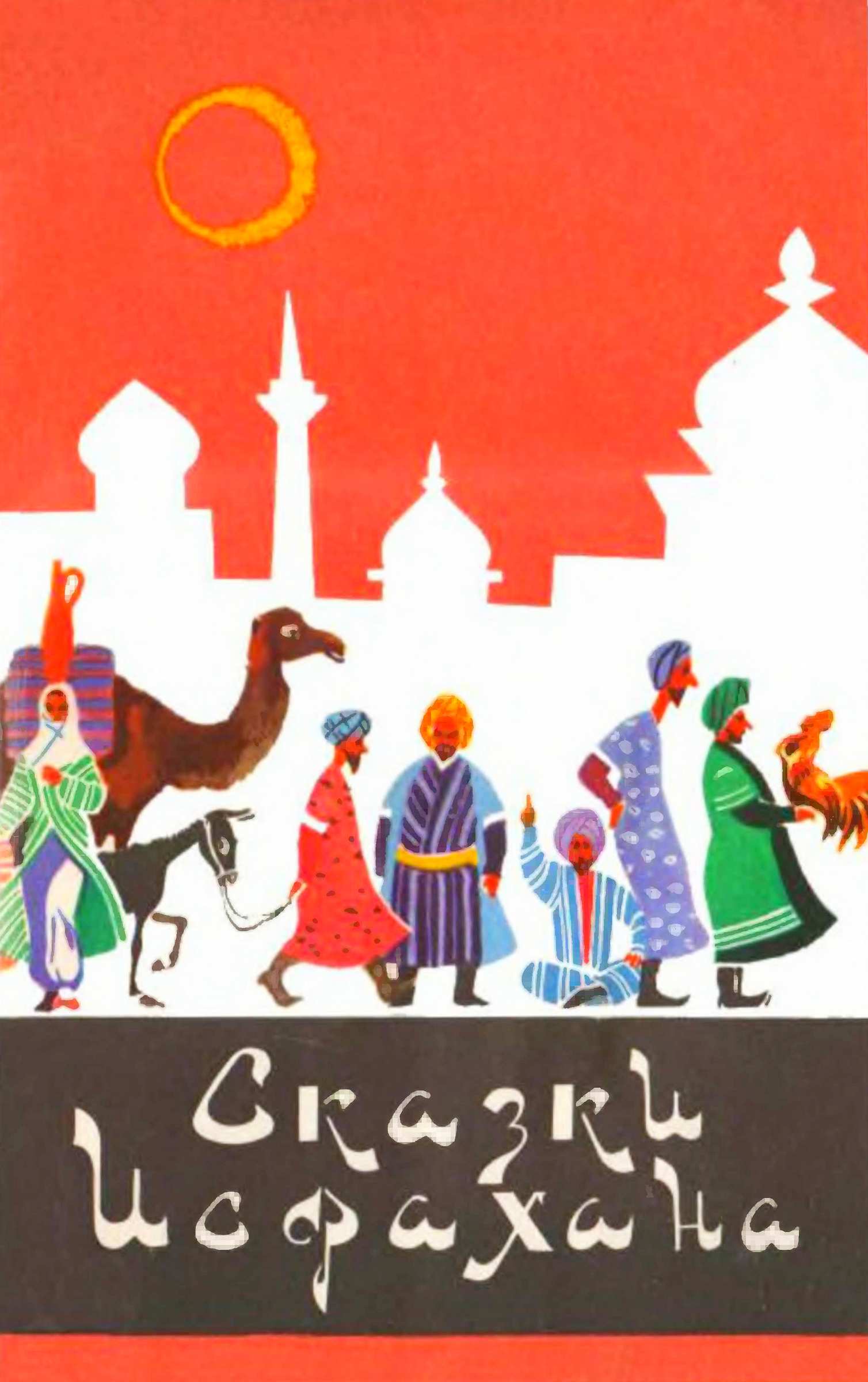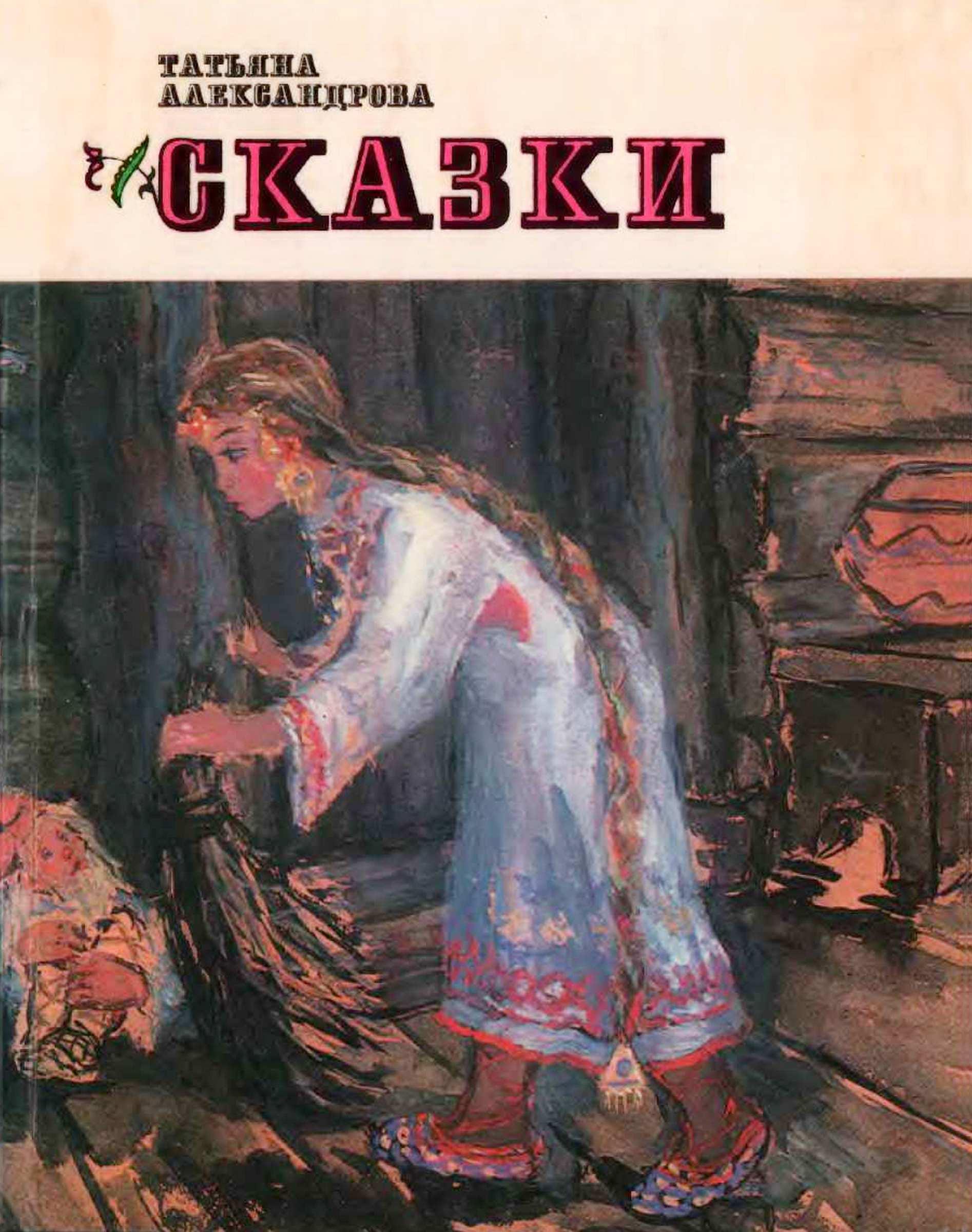взглядом и начала: «Я давеча за Волгу смотрела. Как там хорошо…» Телешева по графинчику постучала: «Спасибо, деточка!» И вдруг Эйзенштейн, чьих глаз из-подо лба никогда не было видно, говорит: «Королева, вы с нами шутить будете?» У меня — слезы градом. «Деточка, давайте что-нибудь комедийное!» Я еще больше разрыдалась — оскорбили. Я же героиня! А они из меня клоуна делают. Но собралась: «У меня Чехов есть. Рассказ „Неудача“. Прочесть?» Одобрили: «Вот это давайте». Дослушали до конца. А потом дали задание на этюд: разговор по телефону с больным отцом, затем — с начальником и с любимым человеком.
Поговорили о фильмах, о музыке, о работе художника в кино. Вдруг Эйзенштейн достал огромную связку прошнурованных бечевкой репродукций — там было все, начиная с Византийского искусства. А фамилии мастеров и эпоха были заклеены. Сергей Михайлович брал репродукции веером, и на какую показывал пальцем, нужно было безукоризненно назвать мастера и картину. Из десяти репродукций я не угадала только две.
Так что экзамены были очень сложными. А после войны ситуация изменилась. Когда я об этом спросила у Станислава Ростоцкого, он сказал, что требования при приеме во ВГИК были средними. Но что значит «средними»? Я точно знаю, что аттестат по десяти предметам уже никого не интересовал. Сдавали историю КПСС, литературу и язык.
* * *
С января начались занятия в мастерской Сергея Михайловича. Нельзя сказать, что он требовал от студентов чего-то невозможного, но ему и в голову не могло прийти, что мы что-то не знаем. Так что нам постоянно приходилось быть на подхвате у его эрудиции. К началу занятий курс состоял из сорока человек. Через семестр — из двадцати восьми. К третьему курсу осталось всего четырнадцать.
Ко мне у Мастера было особое отношение. Не знаю, помнил ли он мое имя, так как величал меня «Кралевной». Входя в аудиторию, он неизменно спрашивал: «Кралевна здесь? Тогда начинаем!»
Что же касается его симпатий к студентам — самым любимым учеником Сергея Михайловича стал Миша Швейцер. Мэтр возлагал на него большие надежды и не ошибся. Швейцер стал известным и талантливым режиссером.
Параллельно мы занимались актерским мастерством, конечно, по системе Станиславского. И вела их профессор Елизавета Сергеевна Телешева. На втором курсе мы уже делали отрывки в гриме, костюмах. Я увлеклась актерской профессией, и Елизавета Сергеевна стала ко мне внимательно присматриваться. Я хорошо сдавала экзамены, причем один раз сыграла Улиту из «Леса» — образ комедийный, острохарактерный. На экзамене я наблюдала за Телешевой и Эйзенштейном — они все время перешептывались. В следующем семестре мы ставили «Месяц в деревне» Тургенева. Там я играла драматическую роль Натальи Петровны, сцену с Верочкой. Образ совершенно не соответствовал моим характерным данным, и все-таки Елизавета Сергеевна дала мне его на преодоление. И я сделала. Отрывок получился хороший, и опять они шептались. В результате я узнала, что в протоколе было написано: «Рекомендовать на актерский факультет. Телешева». Эйзенштейн дописал: «Возражаю».
Пока они судили-рядили, началась война. ВГИК был эвакуирован в Алма-Ату. Бежали из Москвы на грузовых платформах — ставили троллейбусы, и в них студенты ехали до Алма-Аты. Я в этом процессе не участвовала, надеялась, что откроется что-нибудь театральное в Москве, куда можно будет устроиться. В это время мой большой тогда друг Миша Швейцер написал письмо: «Приезжай, или тебя отчислят». И когда немцы отошли от Москвы, в январе 1942 года я отправилась в Алма-Ату самостоятельно.
Ехала семнадцать суток. И приехала вся во вшах. Когда спускалась из вагона со стареньким чемоданчиком, увидела встречающего меня Мишу с тележкой. «Ты думал, что я гардероб привезу?» — спросила я его. Он похудел, к ногам вместо ботинок были привязаны деревяшки. Посмотрела я на него: «За этим ты меня вызывал?» Он говорит: «Это случилось только месяц назад. У нас очень тяжело. Но Сергей Михайлович тебя ждет».
Я пришла к заведующему научной частью, оператору Юрию Андреевичу Желябужскому, он открыл передо мной протоколы последнего семестра, где было написано: «Телешевой рекомендована на актерский факультет». Я рассказала об этом Мише, и он ответил: «И иди. Потому что Сергей Михайлович требователен так же, как если бы не было войны. Надо сидеть в библиотеках, надо знать все. Если он поймет, что ты чего-то не знаешь, он даже разговаривать не будет». Елизавета Сергеевна не приехала в Алма-Ату, а актерским курсом руководили Ольга Пыжова и Борис Бибиков. Я попала к ним и была безумно счастлива. Этих педагогов я вспоминаю с гордостью, любовью, слезами и благодарностью. Они мне очень многое дали.
Там же, в Алма-Ате, я впервые снялась в кино. Во время войны создавались боевые киносборники. Козинцев и Трауберг сделали сюжет «Юный Фриц» с Михаилом Жаровым в главной роли. Я играла начальницу женского отделения Гестапо, невесту Фрица. Мне нарисовали огромный синяк под глазом, затянули картуз ремнем, и мы с Жаровым танцевали вальс.
* * *
Эйзенштейн продолжал заниматься с остатками режиссерского курса и одновременно приступал к съемкам «Ивана Грозного».
Студенты были голодные, разутые-раздетые. Естественно, Эйзенштейн не возражал, чтобы они снимались в массовках, так что мое общение с ним продолжалось. Надо ли говорить, как мы все следили за его гениальной работой в павильоне. В то же время, работая на своем факультете над отрывком из «Ромео и Джульетты» в роли Кормилицы, я сорвала голос. Надо было срочно лечиться, доставать горячее молоко и инжир. Денег нет. Решилась обратиться к Сергею Михайловичу. Пришла в павильон: он сидит и что-то темпераментно объясняет какому-то актеру. Я нагнулась к его уху и тихо попросила денег на лечение горла. Ноль внимания. Ну, думаю, бесполезно, он весь в работе. Я угрюмо повернулась и пошла прочь. Вдруг слышу окрик: «Кралевна! Кралевна!» Оборачиваюсь — меня догоняет его помощник Борис Свешников и сует деньги от Сергея Михайловича: «Как он сказал, на горло». Со временем выяснилось, что за помощью к нему обращались многие.
Вспоминаются и курьезные случаи. Дело в том, что хлеба, который выдавался по карточкам, ни одному студенту не хватало. Тогда студенты-художники стали рисовать фальшивые талоны. Но как они потрясающе это делали! Отличить от оригинала было почти невозможно. И все-таки один из них попался. Его забрали в милицию. Ребята-художники кинулись к Эйзенштейну с просьбой выручить товарища. У Сергея Михайловича не было ни минуты времени, тем не менее, он на уговоры поддался. Потащили его к начальнику отделения милиции, которому режиссер спокойно заявил: «Если вы не отпустите этого человека, погибнет все советское киноискусство. Он самый