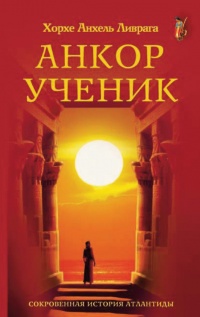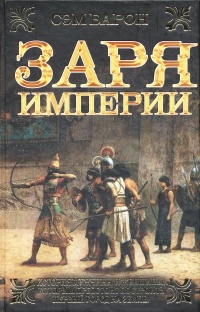— Да-а… — И ни на кого боле не глядя, ушел в увлеченный люд.
— Ты у них ночуешь? — не отставал Хорсушка.
— И днюю. Ранен я.
— Ничего! Вон какой молодец! — Рыжий хлопнул ладонью по мощной груди Щека. — Ну, скоро мы возвращаемся! Готовься, не пропадай!
— Все мое на мне, лошадка на месте, я готов.
— Покумекаем по отъезду, и я тебе сообщу. Скажи, куда зайти? — Хорсушка пялился на пристроившуюся рядом со Щеком Длесю.
— Моя жена, — предупредил парень.
Премного удивились сестры, а рыжий больше не приставал к Щеку, отвернулся от Длеси и обратился к Хиже:
— Вот это мужик! Наш человек — тур-камень-стать!
Хижа, сначала не поняв, к кому он обращается, а потом сообразив, что к ней, склонила несмотря на годы по-девичьи высокую шею. Хорсушка переглянулся с уводившим семейство Пламеном и откровенно уставился на тело вставшей, как вкопанная, Хижи.
— Подожди-ка, солнышко. Пантуха, где тебя искать?
— В римарне… — процедил Щек.
Хижа дышала, как тесто на опаре.
— Что-то Папушкиного мужа не видно… — Она смотрела в толпу, но слушала дыхание рыжего мужичка, подбирая сухие губы и наслаждаясь близким жаром его немигающих глаз.
— Ляд с ней, с такой деловой. Город-то у вас — любо-лепо! Зато у нас — без войны. Согласись, солнышко, тоже неплохо!
Хижа мяла возле груди длинные пальцы и была сама Ляля. Желтизна лица куда-то исчезла, облизанные губы блестели юностью, голос вдруг содеялся ангельским:
— Когда дружина приходит, в городе тесно. Грязь везде, срамота.
— Да ну их! Как кони в поле — лишь бы от ватаги не отстать! Глянь, рыбка, и под ноги не смотрят! У коня-то складного дум поболе будет… Кстати о конях. Пойдем, веточка, на конюшню, дадим сенца моему рыжему! — Хорсушка с умыслом гладил себя по волосам. Будто не зная, где конюшня, Хижа спросила, томясь:
— А далеко ли?..
Именно в это время к Остену подошел человек в бобровой шапке. Народ на рать он собирал, а в прорыве не был. Государственный муж прибыл в город недавно.
— Славный муже, как твои раны?
Остен ястребом заглянул под мохнатые брови огнищанина.
— Благодарствую, хоть летами не молод, раны — как на звере храбром.
— Да что молодые? Аки соколики, летят на рать, крылами ухая напрасно, а земля неустроена.
Остен тер пальцами бритый по-киевски подбородок. На лице пятнели шрамы старые да свежий — над бровью.
— Предки на дереве едали и золотом платили, потомки на золоте едят, а ветром платят! — поддержал он.
— Величать меня Стефаном. Если ты заметил, я побережник.
— Да видел я не однораз на реке. Есть ли успех?
— Это ладно, что видел. Дело мое трудно, успех ждет и прячет явь свою. На твою волю могу предложить княжью службу, коли есть хотение. Я тоже в службе той. Нужны пособники. Как звери, храбрые.
— Послужить князю буду рад — всегда тяготел к порядку! — Остен выглядел очень внушительно, и слова произносились изощренные.
— Добро, муже, пойдем на гору, там и обговорим дело. Тут несподручно.
— Я готов, лишь оставлю оружие своим.
— Ничего, тебе и с оружием не зазор! Наслышан о вашей дружине премного. Она нам тоже понадобится.
Озадаченный Остен пошел за огнищанином, соображая, что еще известно об их поречной дружине.
— Я знаком от купцов о вашей доброй заставе. Кто у вас голова?
— Никто. Всяк по малу.
— Нехорошо…
Они направились за остатками княжьей дружины к горе, в неплохо знакомые Остену места…
На следующий день к полудню в привратье стали собираться иногородние к отъезду. Несколько тетушек распевали хвальбы слабыми недружными голосами, но от всей души.
Собирались и поречные. Щек стоял с Длесей. Рядом — ее родители в слезах, Папуша с объявившимся мужем. Хижа с Хорсушкой также стояли парой. Странная девица вдруг запросто решила съехать. Родители отказывались понять это, но не лезли к серьезной дочке: двадцать с гаком — уже не молодуха…
Ждали Остена. Он подъехал из города на новой лошади. С ним на степном скакуне — Стефан. Остен громко крикнул своим:
— Отъезжаем! Хорсушка, моего коня забери для бабы своей. В поселке отдашь. Ты еще? — увидел он Щека с Длесей и гнедую — одну на двоих.
— Покорно прошу — не за себя, за клевого парня! Из конюшенки бы вялую вырешку — для дела лучшего… — тихо ходатайствовал перед побережником Остен.
По приказу Стефана какой-то гридин отправился на конюшню. Новый патрон пока с внушением наставлял Остена:
— О бывшем зазря не думай, брось! Доедете до виделки — там прасолы перевезут. Белчуг покажи — и они сробят, не медля. Нет — суди: дружина тебе в помощь. Дале посягай все, чему научен, а там предки дело выкажут. Я буду к вам до паздерника. В дорогу вам вей-ветерок! — громко крикнул Стефан, и конная вереница отправилась по высоченному берегу Днепра, подгоняемая в спину предлетним южным ветром… Доскачут до виделки Днепра с Десной, переправятся и помчат по домам. У всех там свои дела…
* * *
После прихода с капища Гульна отозвала Сыза в сторонку, показав всем, чтобы разговору не мешали.
— Сыз, ты у меня остался один советчик, хочу побалакать с тобой.
— Говори, павушка, подскажу, если соображу, о чем вопрос.
— Што это за слова у тебя такие — «павушка»? Всегда от тебя слышу, а не знаю, чего это?
— Как не знаешь? Говорил я тебе.
— Нет, Сызушка, не упомню. Говорил ли? Ох, потешься передо мной.
— Сказывал и не однако, а ты меня не помнишь, словесам не внемлешь.
— Не помню, — заулыбалась Гульна. — Скажи, впредь не забуду.
— А-а-а, эна… — буркнул старик, отворачиваясь.
— Сыз, послушай меня и ответь…
Сыз уставил выцветшие бельмы в зеленевшие некогда орехом глаза женщины. Она передохнула и начала:
— Светя у меня мужик взрослый, дом блюдет, а посему живет — как мальчик…
Сыз слушал внимательно.
— Вот уж год он никуда не ходит, понимаешь меня?
— Его дело.
— Нет, отец родной, не его, а природы. Устоится он совсем— через срок и башкой переменится! — Гульна ввернула словцо из своей берендейской молодости.
— А у тебя что за словесо — «башкой»?
— Головой, дундырь!.. Не обижайся, Сыз… — всхохотнула женщина и мигом осеклась. — Совсем к старости маковкой дурна стала. Старость — не мед с малиной… — Она усердно потерла ладонью лоб и нахмурила брови. Сыз собирался было уйти после «дундыря», но остался, наблюдая за движениями напряженной бабы.