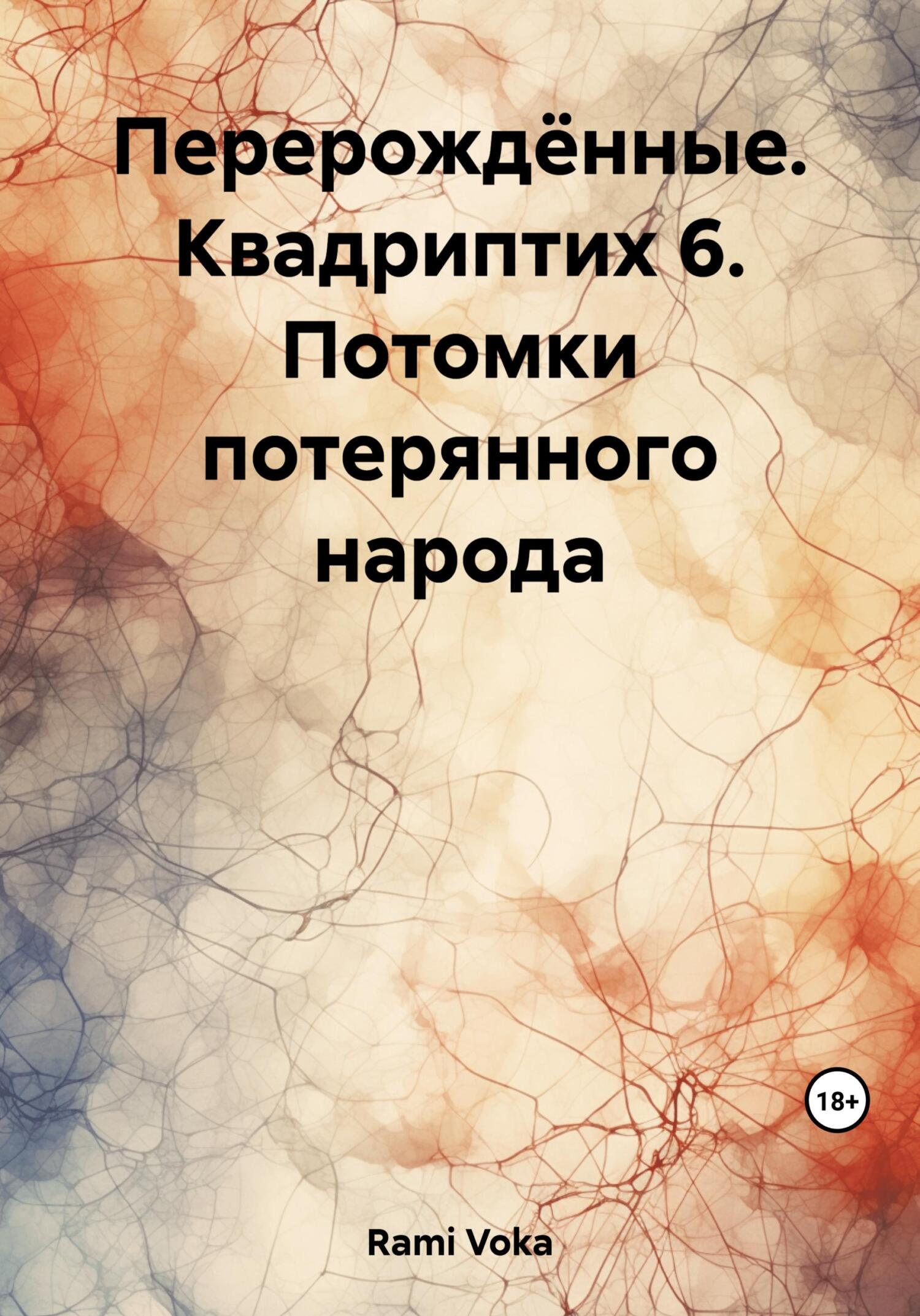кровью при воспоминании о том, как нам было хорошо, пока мы были маленькие, как мы любили друг друга, как ласковы были между собой и с родителями, — я все же прямо заявил сестре, что никаким ее отгулам не верю, и пускай она возвращается, откуда пришла.
Сестра подчинилась до странности охотно, что еще пуще меня разжалобило. Я приготовил множество точно продуманных логических аргументов о возможных и правдоподобных сроках отгула, вызубрил роль обвинителя в столь тягостном трудовом конфликте, и хотя право явно было на моей стороне, в тот момент, когда сестра швыряла свои немногочисленные вещички в спортивную сумку, я казался себе последним идиотом.
Потом сестра, стоя перед зеркалом, размалевала себе глаза самым дурацким образом, пририсовав ресницы под нижними веками, и бросила с усмешкой:
— Сказал бы прямо, что боишься жены, было б лучше и для тебя, и для меня.
Этого она не должна была говорить. Меня вдруг перестало умилять ее размалеванное, как у клоуна, личико, в котором было столько трогательного сходства с моим лицом, отражавшимся рядом с ней в зеркале. А когда она еще с порога добавила, для ясности, что «незачем тебе было изучать кодекс законов о труде, и мне нечего было питать иллюзии, будто есть у меня брат, к которому я могу обратиться, когда мне плохо», — мне стало ясно, что именно ответить матери, когда все это кончится так, как и должно кончиться.
После ухода сестры между мной и женой установилось прекрасное согласие, как в первые дни нашего супружества. Согласие это нарушила только высказанная мною мысль, что лучше не писать матери, а самому к ней съездить и лично довести до ее сведения факт, что я состою в браке с женой, а не с братьями и сестрами. Мы долго спорили, благородно такое решение или трусливо. В конце концов, каждый остался при своем мнении, и расстались мы со смешанными чувствами.
Зная, сколь многое придется мне обдумать в дороге, я стал подыскивать удобное купе в ночном поезде. Пятнадцатилетний паренек, с собакой в корзине, напоминал мне брата. В моем положении соседство с ним было нежелательно. Девчата, возвращавшиеся с танцев, в ярких и воздушных дешевых платьях, торчавших из-под потрепанных зимних пальто чуть не до грязного пола вагона, просто повергли меня в панику, а от пожилой женщины в засаленной железнодорожной форме я на всякий случай совсем отвернулся и сделал вид, будто гляжу в окно в коридоре, слепое от грязи. Смотреть на морщинистое красное лицо этой женщины, на ее большие руки с потрескавшимися ногтями — да я бы лишился всякой способности мыслить!
Только в конце вагона, в купе по соседству с уборной, из-под двери которой вытекала струйка воды, сидел человек, с которым — так мне, по крайней мере, показалось на первый взгляд — можно было ехать молча, предаваясь раздумьям об окончательном разрыве с теми, кто, одолев земные вечные ничтожные заботы, не в состоянии постичь, что у меня — своя семья и своя жизнь.
Человек в купе был молод, примерно мой ровесник; его модная одежда — расклешенные брюки, пиджак с широкими отворотами, галстук, завязанный крупным узлом, — убеждала меня в достаточной поверхностности ее обладателя, чтобы он мог повлиять на мои глубокие думы. Когда же я вдобавок заметил его твидовую шапку с огромным помпоном, раскачивавшуюся на крючке вешалки, ничто уже не мешало мне рывком отодвинуть дверь и войти, открыв путь струйке грязной воды, вытекавшей из уборной, и та мгновенно, извиваясь, поползла прямо под ноги моему соседу.
— Свободно?
— Как видите.
Я уселся у окна напротив спутника, его лаконичный ответ на мой ненужный вопрос настолько меня успокоил, что письмо матери, которое я то и дело вынимал из портфеля и совал обратно, ни разу не дрогнуло в моей руке.
На стрелках больших станций поезд бешено грохотал, и шапка с помпоном описывала почти полный круг на крючке. Я следил за ее фантастическим раскачиванием и от души забавлялся в ожидании момента, когда она свалится в грязь под ногами. Зернышки твида были рассеяны по белому полю. Когда шапка, наконец, свалилась, я осторожно поднял ее, стряхнул черные жирные брызги и с виноватой улыбкой подал спутнику. Тот изрек только:
— Упала. Ну и вывозилась! Я ее всего тридцать шесть дней и ношу-то.
Заметив мое удивление, он стал объяснять:
— Купил седьмого января. В среду, в девять часов. На Пршикопах. Маленький такой магазинчик. Шапки, шляпы, перчатки, чемоданы.
Псих, подумал я. Но лучше ехать в обществе психа, чем с девчонками, возвращающимися с танцулек, чей неискусно наложенный и размазанный грим напоминал мне подмалеванные, как у клоуна, глаза сестры. Или с пожилой железнодорожницей, чьи руки приспособлены мыть окна экспрессов, а когда им доводится писать, то почерк выходит размашистым и неженским. Однако разговор со спутником был начат, и приличие требовало хоть как-то отозваться. А главное — скрыть, что я о нем подумал.
— У вас изумительная память.
Мой визави усмехнулся. Но не польщенно, как усмехаются люди, когда им скромно указывают на их скрытые добродетели, способности или приятные черты. Он усмехнулся с какой-то покорностью судьбе.
— Память? Да нет, вряд ли. Это ведь у всех так… Случись с нами что угодно — автомобильная катастрофа, смерть близкого человека, утрата иллюзий, государственный переворот, — мы из всего этого только и запомним, что тогда кричала какая-то птица, да так странно, что сердце захватывало, или что пахла сирень, что мимо шел смешной человек с огромными ступнями, или что один из пожарников, примчавшихся к рухнувшему самолету, в котором погибло восемьдесят человек, шмыгал носом…
Видно, у него беда, подумал я, и мне захотелось как-то дать ему знать, что я его понимаю; захотелось привести какой-нибудь пример из жизни, успокоить его и внушить мысль, что он не одинок. Но в голову ничего не приходило, и я тупо таращился на собеседника. А тот, видимо, испытывал потребность объяснить свое неожиданное излияние. Быть может, потому, что уловил в моем лице некоторый испуг.
— Нет, нет, никто у меня не умер, и катастрофы никакой не было, и в государственном перевороте я не замешан, — сказал он. — Я вполне нормальный человек. Многие считают меня даже «преуспевающим молодым человеком». Так ведь это называется, правда? Люблю хорошо одеваться — как увижу что-нибудь элегантное, сразу покупаю и долго после этого испытываю приятное чувство. Много езжу, и мне лестно слышать о себе: «Он только что из Брюсселя», «вернулся из Вены», «побывал в Ленинграде». Меня часто приглашают выступать в школах, в филиалах Союза чехословацко-советской дружбы и так далее… Рассказываю я им