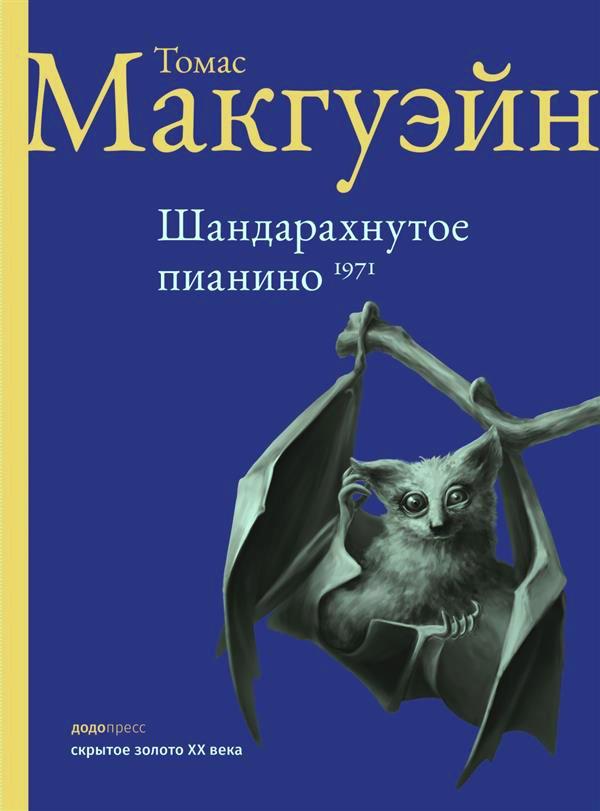и помолчал, и повторил, и стал выписывать кружева по гладкому льду моего молчания – авось растает!.. Послушай только.
– Радость моя, ну, послушай. Только послушай меня, минуточку, ладно? Прости меня. Ну, прости меня, прости, пожалуйста. Не расскажешь всего так сразу. Машина тогда у меня сломалась на Ленинградке, я ее греб почти на себе, по снегу. Дальше как в кино: упал, очнулся, гипс… ну, если короче, просто получил воспаление легких, валялся в больнице. Ты как больше любишь жалостные истории – за кофе или сразу шампанского?
– Дурак, – сказала я, но не очень уверенно.
– Нет, – серьезно возразил он. – Иначе забыл бы твой номер. А я помню.
Затем он назвал бульвар и памятник, нам обоим трогательно знакомый, и, конечно, я пришла. И вот тогда…
14
Вот тогда, пожалуй, я начала понимать, что все, чего страстно желаешь, сбывается, но чаще всего не так, как указано в прекрасных планах.
Верман вышел ко мне из пугающе красивой машины, гладкой и блестящей, как летний бронзовый жук – но все это было, конечно, не так интересно, как смотреть на Вермана, и уж на него я смотрела – во все глаза.
Он стал как будто меньше ростом, или я непостижимым образом, незаметно для себя, выросла, а он остался в пределах страны чудес, книжного размера. При этом волнение мое как-то перекосило все декорации – очевидно, навеселе были гример и невидимый осветитель, – так что передо мной, все же заслоняя бульвар, светофоры, деревья, вечернее солнце, высотные здания и полупонятные вывески, стоял темноглазый, загорелый, выбритый модной бритвой, то есть, на рассеянный и неискушенный взгляд, дочерна не бритый человек с подстриженными серебристыми висками, которому я почти доставала до бровей.
Но вот он улыбнулся, взял меня за руку, заговорил, и от его голоса мне стало легче, и что-то посветлело и расправилось.
Недалеко от бульвара, говорил он, был лет пятнадцать назад конспиративный джаз-клуб, и он ходил туда на концерт композитора-чародея, того самого, из Питера, и дом этот отсюда рукой подать, давай покажу…
Но, хоть и рукой подать, а идти пешком по мягкой от тополиного пуха дороге он отказался, – так что зеленые крылья чудо-кареты распахнулись, три сотни лошадей тряхнули гривой, флейта дрогнула в бархатно-черных динамиках, напомнив мне, что Верман все еще любит Баха, и мы тронулись в дорогу.
Он нашелся не сразу, искомый колодец того двора – белье на хлипких балкончиках, щербатые качели, у которых всегда не хватает дощечки в сиденье, худосочный боярышник у подъезда и тоненькая, усыпанная все тем же вездесущим тополиным сором, рамка тротуара в которую кое-как вставлены и палисадник, и качели, и старое такси. Только было тише, чем обычно бывает во дворе, и я внезапно услышала, как отчаянно цитирует мое сердце какой-то бессмысленный ямб.
Верман открыл оба окна одним прикосновением к умной кнопке и, проявив мастерство, которое я пока оценить не могла, припарковался вплотную к старому грузному такси. Делал он это как будто даже невнимательно, с жаром говоря о гастролях, которые он уже почти перевел из мечты в жизнь для одного виртуозного струнного квартета в Чикаго, о постоянных командировках в Америку, так что в салонах бизнес-класса Москва – Нью-Йорк он знает всех стюардесс поименно, и прочая, и прочая. Потом, аккуратным змеиным жестом освободился от второй кожи тончайших лайковых митенок («водить в них удобнее…»), и я увидела, что на левой руке у него теперь нет кольца. А вот часы есть, и даже очень: алмазные стрелки, черный циферблат и росчерк часовщика − витиевато, но неразборчиво. Я только подумала, спросить или нет, как он заглушил мотор, звякнул зажигалкой и ответил – на этот, на тот и на третий вопрос, прежде чем они были заданы.
– Вот, теперь коллекционирую. Эти в Цюрихе купил, только там и надо затариваться… А кольцо в табакерке оставил. У нас табакерочка такая, давнишняя, перламутровая, польской еще какой-то прабабки… мы в Москве всегда на полке, где фотографии, хранили ее… И Гришкин крестик там, и всякие… безделушки…
Он замолчал, вспоминая, видимо, цвет камней, узор филиграни, или, может, дату внутри кольца.
– Она мне сказала: ты свободный человек. Я ей говорю – ты тоже. А она мне – это что, значит, я могу завести любовника? И главное, спокойно так. Я говорю, Ань, а это в чем тут логика? Молчит. Тогда я кольцо снял и положил в шкатулку. Она встала и ушла. И с тех пор началось – как только пытаюсь понять, что происходит, один ответ: оставь меня в покое. Ну, я, разумеется, проверил сразу, нет ли у нее кого-нибудь.
– То есть как «проверил»? – спросила я, завороженно глядя на его руку, распяленную на руле.
– Ну, как… Нанял частного детектива. Он и проверил. Контролировал ее в течение трех месяцев. Нет, говорит, все чисто. Ну, а если чисто… – вздохнул он и смахнул с руля невидимую соринку. – Нет, ну вот ты скажи! Дом, бассейн, машина, вишневый сад, полная свобода − хочешь работай, хочешь дома сиди. Ну, чего ей не хватает?..
Я знала, что вот теперь, если посмотрю на него, то встречусь взглядом с его новыми, заледеневшими, сумеречными глазами. Но отчего-то мне этого не хотелось.
– А почему ты говоришь «в Москве хранили»? Ты сейчас где? – тупо спросила я.
– Так я перевез Гришку с Аней в Америку, этой зимой. Так, по семейной линии появилась возможность… надо было решать быстро, ну… и ты ж видишь,– доверительно обратился ко мне Верман, как будто мы с ним сидели в одном зале ожидания на чемоданах, – что сейчас в стране творится, как тут вообще с детьми жить…
– Так ты переехал? – спросила я.
– Да, одной ногой… Они теперь там, в Сикамор Гарденс, а я больше здесь, я ж работаю…
– На «Новом радио»?
– Какое «Новое», ты что! – искренне удивился он. – Я же в шоу-бизнес давно перешел, ну, концерты в основном, диски тоже, но так, по мелочи… Ты-то как, забросила музыку?
Какая роскошная глупость.
Верить, что встречу тебя там, на пятом этаже, что ты выйдешь из студии, на ходу объясняя что-то бегущему за тобой курьеру, что все по-прежнему замерло в хрустальном шаре, где так же головокружительно сыплется прошлогодний апрельский снег на мою шутовскую шапочку, пока я жду тебя на перекрестке, на который никто никогда не придет, пока я люблю тебя и верю, что встречу тебя там, на пятом этаже…
– А когда же вы видитесь? – перевела я разговор на семейную тему.
– Да мы