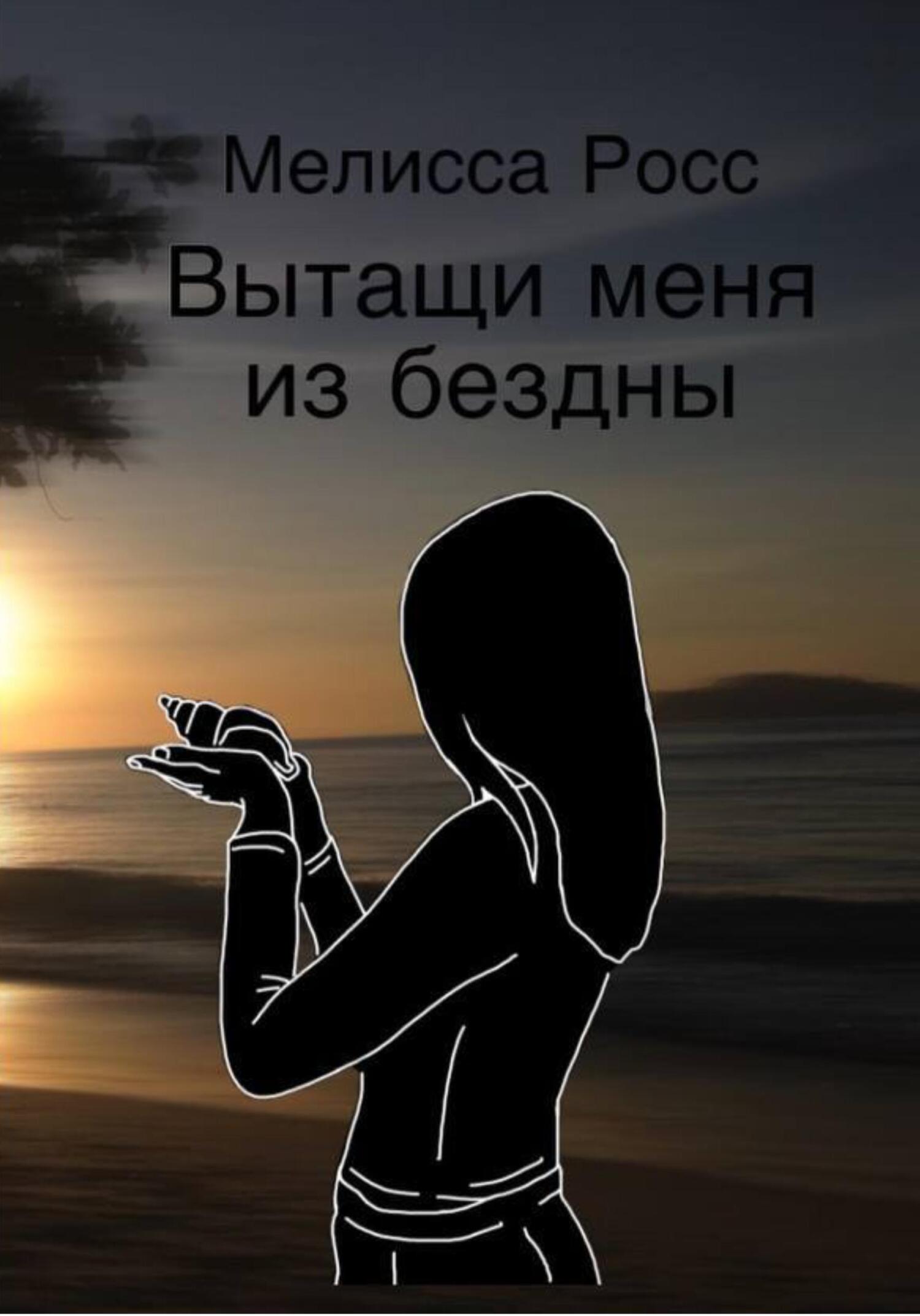на него, чтобы достать мой берет, висящий на одном из рогов; нет, никогда не добраться мне, чтобы схватить его!
— Го! — Тяни! — Тяни вверх! Не могу, черт возьми, не могу!
И я делал движения руками, точно притягивая канат нашей лебедки.
Лакей вытолкнул меня вон, содрав предварительно очень основательную сумму.
Я побрел, напевая песенку деда Барнабаса. Ни довольный, ни недовольный, не думая ни о невестах, ни о девках. Я двигался вперед, а в голове у меня мелькали разные нелепые мысли.
— Будет ли завтра хорошая погода? Не купить ли мне мыла?
Как ей должно быть скучно за стеклом, этой голове моря!..
Невозможно влезть... зато попирую, когда спущу ее! Несчастная кляча! А старик недурно устраивается! Блондинки в тюрьме морского ведомства... черт бы побрал их слезы!
Я все расскажу... подожди... Жан Малэ, держи прямо!
Я тебе говорю, что ты в рубахе родился.
Я невольно ушел с богатых улиц и добрался до маленьких грязных уличек за арсеналом.
Дорогу туда я знал, как свои пять пальцев, так как проделывал ее не раз во время оно, вернувшись из дальнего плавания с капитаном Дартигом.
Так я был тогда молод, если отдавался всему этому с увлечением?
Я и теперь еще молод, да только море пропитало меня до самых пяток своей тоской; особенно с тех пор, как мне пришлось затонуть в нем и душой, и телом...
Я вошел в один дом, широко раскрытая дверь которого зияла, как пасть свирепого волка.
Внутри все было затянуто красным. Красный цвет преследовал меня, впиваясь в глаза тысячами иголок, намоченных в уксусе. Я пил его, он мне попадался на колоннах кафе, на платьях женщин, в фонарях экипажей, теперь вдоль стен. Его было приятно трогать, он был теплый, он был очень хороший...
Вокруг себя я слышал шушуканье, кто-то меня назвал: красивый брюнет.
Я отвык от таких вежливостей.
Я хотел снять мой берет и заметил, что потерял его.
Целая куча толстых девок принялась смеяться надо мной, потому что я искал свой берет; они награждали меня тумаками, щипали, хлопали по спине, заставляли куда-то подниматься и спускаться. Что я с ними делал, я совершенно не помню! Хозяйка рассердилась, и меня вытолкали на улицу.
Я побывал, таким образом, больше чем в пяти домах, которые все разевали свои громадные красные пасти, чтобы схапать меня, и, наконец, в одном кабаке какие-то матросы, уже совершенно пьяные, пригласили меня выпить еще.
Они были с Марсо, большого броненосца, который отплывал на другой день, и мы пели мрачные сочувственные гимны в его честь. Неужели и его заберет море?
И я видел несущуюся со страшной быстротой эту черную исполинскую лошадь, этот корабль, который разбился о Кита, прямо против нас. Морские власти пытались выловить его обломки около Фромвэра. А об экипаже его никто больше и не заикался...
Чудовищные мысли стали терзать калеными щипцами мои мозги: начать войну с морем, задушить море, отрезать ему голову.
Я ощупал свой ножик на поясе. Я видел как что-то красное текло с потолка комнаты, в которой мы пили.
Бросив товарищей, я снова очутился на улице; ноги у меня писали вензеля, и я стукался об стены. Все кругом неслось в головокружительном вихре. Ни газового фонаря, ни огней экипажей, ни спасительных маяков. Я, окончательно, никуда не доберусь в эту ночь!
До меня доносились, удаляясь, звуки песен, смех и крики. Я был посредине маленькой, вонючей улички, должно быть, где-нибудь, около городских укреплений. Пахло гниющими водорослями морских приливов, двигаться вперед приходилось по липкой грязи.
Я никогда не забуду этой маленькой грязной улицы... даже если бы мне пришлось жить еще сто лет.
Она была так узка и так темна, что даже среди бела дня, можно бы было не узнать свою родную мать. Наверху, совсем наверху, крыши домов, казалось, слились в одну. Вдоль улицы, бурча, текла вода, в которой — уже судя по одному ее запаху — перебывало дохлых кошек гораздо больше, чем картофельной шелухи.
Здесь тоже открывались и запирались двери, глотая ночных гуляк, только дома были менее нарядны, и в иных девицы были не прочь ободрать матросов, не пользующихся защитой правительства.
Вдруг, не знаю почему, мной овладел необъяснимый ужас. Я схватился за свой нож, плотно сжал его в руке; мне казалось, что я иду сражаться.
Все ласки этих потаскух там, между красными потоками материй, не успокоили и не протрезвили меня. Весь крик и шум веселых собутыльников, матросов с Марсо, звучал у меня в ушах, как отзвук битвы.
Против кого, против чего должен я восстать, с кем биться?.. А в вышине, гораздо выше домов, вновь соединившихся во мраке, блистал из далекой дали электрический маяк. Его белые лучи секли небо синевато-багровыми хлыстами и ослепляли меня, не освещая дороги.
Удивительнее всего было то, что мне казалось, что я на море. Я шел на маяк Ар-Мен, я направлялся к Башне Любви и я двигался по океану пешком, мне больше не нужно было плыть на Святом Христофоре. Вдруг я услышал, что за мной кто-то идет.
Мелкие шаги. — Шаги того, кто не хочет быть замеченным.
— Это старик, — сказал я себе!
Мне не было никакого смысла думать о старике потому что это была женщина. Она тронула меня за рукав:
— Послушай, малютка!
Безумный гнев охватил меня.
— Малютка? Я — Жан Малэ! — Я стою троих на службе; — я дрался с морем. Не сметь меня называть малюткой... — Я возвращаюсь слишком издалека!
Девушка, может быть, так же пьяная, как и я, а может быть, потому, что мои слова вызвали у ней воспоминание о голосе, где-то уже слышанном, бросилась резким движением мне на шею. Как осьминог, вцепилась она в мои плечи и поцеловала меня прямо в рот долгим поцелуем, ужасным, сосущим, пропитанным запахом мускуса.
— Ты больше никого не будешь целовать! Кончено смеяться, грязная шлюха!
И я всадил ей в живот нож.
Она упала. Я продолжал двигаться дальше, даже не оглянувшись, ступая тверже с большим достоинством, опьяненный великой гордостью.
— Ну, что-же? — Я убил море!
XII.
— Еще кошмар! думал я в течение целых недель.
Однако, меня очень смущало исчезновение берета. Я потерял свой берет во время своих скитаний по душным улицам нижнего Бреста. Не переставая царапать ногтем пуговицу своей куртки, я думал, как ребенок, о том, что придется купить новый и что... старый может