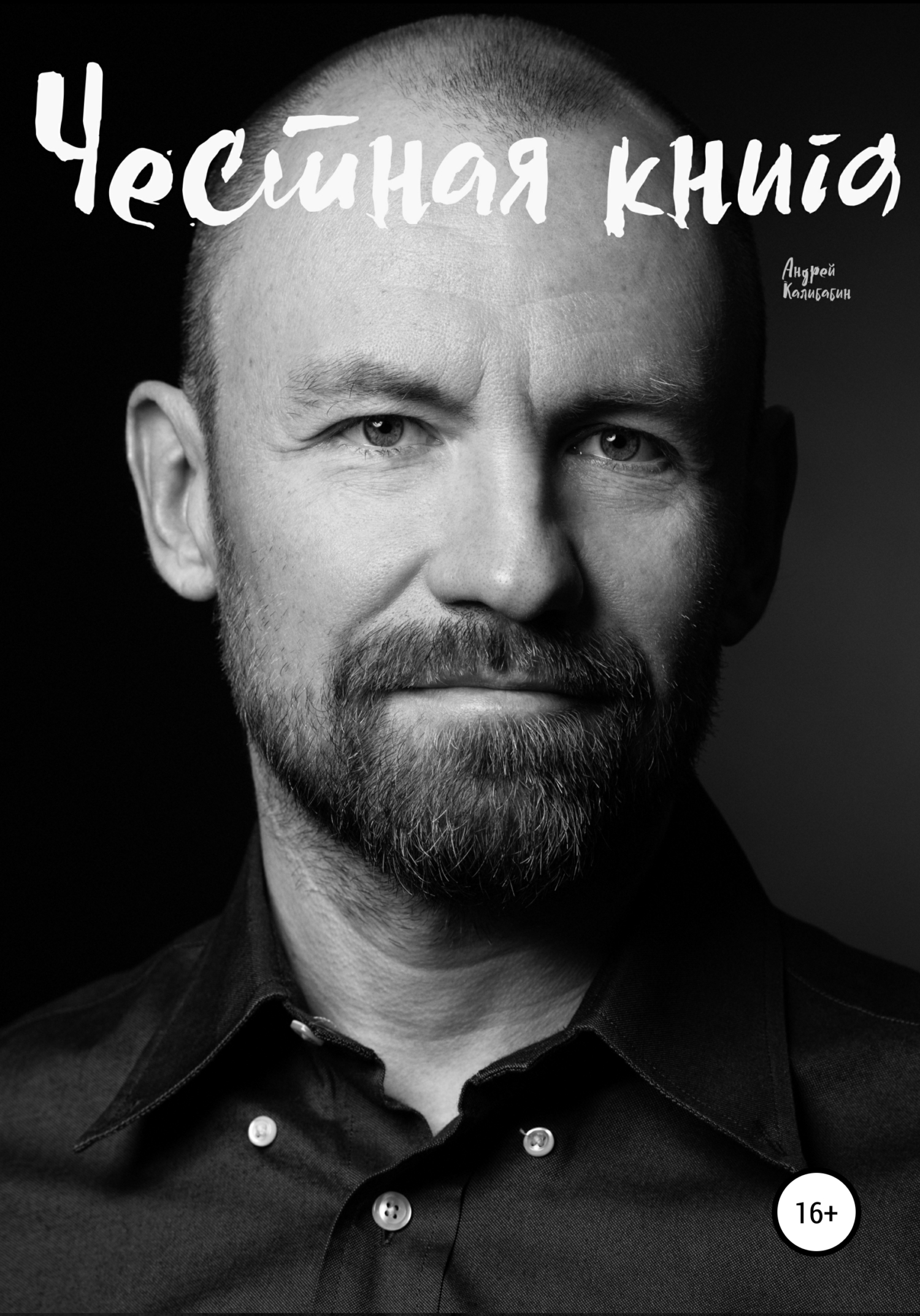кое-кто, а потом и все.
— Может. Мы не против. Может, и мы, немного подумав, запишемся.
— Конечно. Уже три заявления есть.
— От кого?
— От Мышкина и еще от двоих.
— Он подал? — в голосе крестьянина прозвучало не то удивление, не то тревога.
— А что? Каков он? — спросил Панас. Крестьянин помолчал, раздумывая.
— Человек, как человек, но не думал я, чтобы он пошел на такое.
— А вот пошел. Ну, идем в хату, делегаты, может, что-нибудь скажут.
— Ах, что они скажут. Может, и на собрание не пришли.
Панас пошел в хату. Когда он зашел за стол, в хате стало тихо. Люди приготовились слушать.
— Поговорим, дядьки,— сказал он.
— Чего говорить,— откликнулся один из крестьян,— ты говори, а мы послушаем.
— А потом мы поговорим,— вставил слово другой,— а ты послушаешь.
— Я уже все сказал, а теперь вы должны. Пускай делегаты расскажут, что видели в коммуне.
Крестьяне в передних рядах оглянулись, чтобы посмотреть, есть ли на собрании делегаты. Возле печи стояла одна лишь Палашка.
— А что они скажут? — послышалось несколько голосов.— Есть ли у них что сказать...
— Как это? Что видели, о том пусть и расскажут.
— Хорошего, наверно, мало видели,— крикнул кто-то из-за угла.
— Пусть расскажут о том, что видели,— ответил Панас.— Плохое, так плохое, а если хорошее, пусть о хорошем скажут, только бы правду. А тогда будем уже решать, чтоб мне больше не ходить к вам с уговорами.
— Вы приходите. Мы любим послушать людей.
— Выходи, Палашка, скажи, что видела,— раздались женские голоса.— Послушаем и тебя.
Кто-то засмеялся.
— Ничего я не умею говорить, сами уж говорите,— ответила обиженным тоном Палашка.
— Скажи, что видела.
— Что видела, то и видела!
— А я предлагаю, что можно пойти и нам в колхоз,— заговорил неожиданно для собрания Мышкин,— пойти и работать с богом. Советская власть нас не обманет, она наша власть.
Собрание молчало. Мышкин продолжал:
— Что тяжело нам, об этом власть наша знает, потому что сама власть и налог с нас берет, и все такое. Власти оно, значит, больше видно, как надо. Народ растет, а земли мало, хлеба мало. Рабочих в городе у нас много стало, хлеб нужен, так вот я и говорю. Раз товарищ из города говорит, значит, надо так делать. Правда, бывало, город нас и обижал иногда, а теперь, может, и не будет, теперь, может, и ситчику больше даст, и подошвочки... Раз пролетариат,— значит, хозяин, и слушаться надо...
Внимание Панаса было занято в это время другим. Он хотел во что бы то ни стало добиться выступления делегата, потому что чувствовал, что его выступление принесет ему победу над собранием. Наблюдая за собранием, прислушиваясь к репликам крестьян, он угадывал, что это собрание будет решающим. Потому, когда Мышкин закончил и сел, Панас ничего не сказал по поводу его выступления и опять обратился к делегатам:
— Вы скажите, что видели в коммуне. Так ли оно страшно и плохо, как Бобковичиха говорила, или нет? Что ж вы?
Никто не ответил. Палашка стояла у печи и молчала.
— Жаль... Жаль... Что ж это вы?
— Да они и не пришли на собрание. Мужчины не пришли, а Палашка что скажет. Она неграмотная...
— Что видела, о том пусть и скажет.
— Не умею говорить я, вот и все,— откликнулась Палашка.
Она отошла от печи к порогу, постояла минуту там и вышла в сени.
— Если б что плохое было, сказала бы, а то, наверное, нет, а правды о хорошем не хотят сказать, вот и молчат, и это ничего. Пускай себе так, обойдемся. Ну, так что ж будем делать? — спросил Панас.— Кто еще сказать что хочет?
Собрание молчало. В одной группке крестьяне переглядывались, что-то говорили друг другу, посматривая то на президиум, то на собрание, наверное, что-то сказать хотели, но никто из них не решался заговорить первым. В углу кто-то шепотом, зло ругаясь, выговаривал другому. Тот оправдывался. Несколько человек, укрывшись в середине собрания, тихонько иронически посмеивалось. А большинство собрания сидело молча и ждало.
— Так кто еще сказать хочет? — повторил вопрос Панас.
В этот момент пискливо скрипнула дверь, широко раскрылась, и у порога остановился, снимая шапку, Клемс. Он глянул на собрание, ожидая, что оно ответит на слова Панаса, не дождавшись, пошел к столу.
Панас заметил Клемса, угадал его намерение и навстречу ему сказал:
— Может, дядька Клемс что-нибудь скажет про коммуну?
— Про коммуну ничего не скажу,— ответил Клемс уже у стола.— Скажу только, что хуже, как было, не будет, видно по всему. А если хуже — разойдемся. Сами делаем, сами и разрушить сумеем. Но я не для того говорю, чтобы разрушать. Делать чтобы навсегда, чтобы прочно...
Он посмотрел на угол, хотел перекреститься, но встретился взглядом с Панасом и протянул руку за карандашом.
— Давай подпишу протокол, я за колхоз, значит,— сказал он. И на протоколе, где указал Панас, Клемс поставил три косые крестика.
— Сам хочу записаться, чтобы не бежать если что.
Затем, обратившись к соседу Евсею, стоявшему у печи, сказал:
— Иди, кум, записывайся. Я уже.
К столу подошел кум, снял шапку, торопливо три раза перекрестился на иконы и так же торопливо вывел на протоколе под Клемсовыми крестиками два кружочка.
— А это мое будет... Чтоб только лад добрый был...
Он отошел за Клемсом и стал возле печи.
— Так, и я, как уже говорил, запишусь.
К столу подошел Мышкин и подписался па протоколе.
— Пишитесь, граждане,— обратился он к собранию,— чтобы не думали товарищи, что мы какие-нибудь там...
Тогда поднялось собрание, зашумело. Крестьяне подходили поочередно к столу и на протоколе ставили по-разному свои подписи, а потом, взволнованные, смущенные, словно стыдясь чего-то, отходили и закуривали. Из угла закричала женщина:
— Пускай бы они сами писались в городе! Из комиссаров своих пускай бы колхозы делали, так нет, из мужика все! Идите! Пишитесь! Попробуйте хлеба коллективного!..
А к столу подходили крестьяне, подписывали протокол и отходили. Когда подписал протокол сто тридцать седьмой — последний, Панас, радостный, взволнованный, взял протокол, дал подписать его председателю и секретарю собрания, а потом обратился к собранию с горячими, искренними словами о жизни, которую надо построить коллективными силами. Крестьяне сошлись ближе к столу, плотно, молчаливо стояли, слушая Панаса,