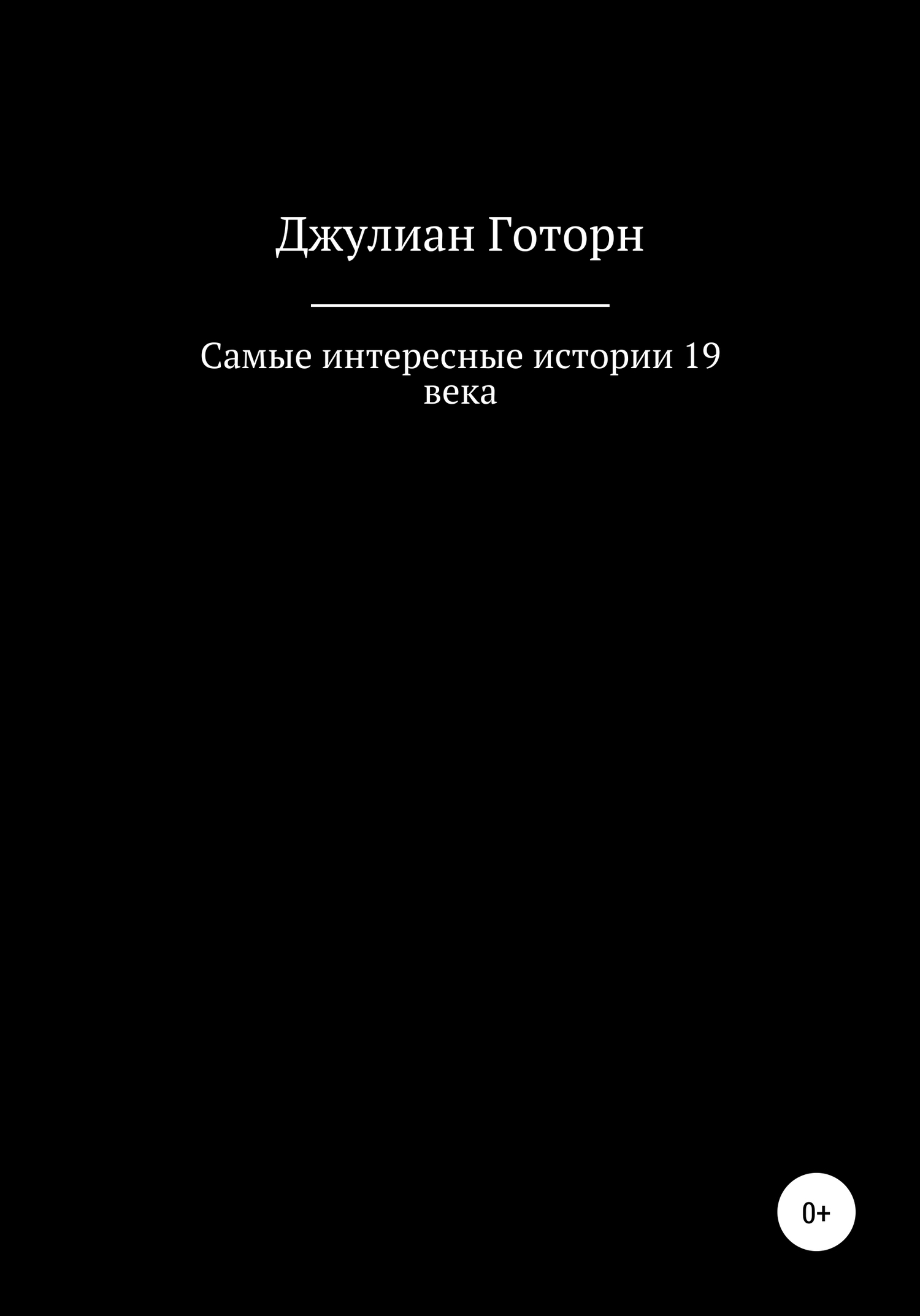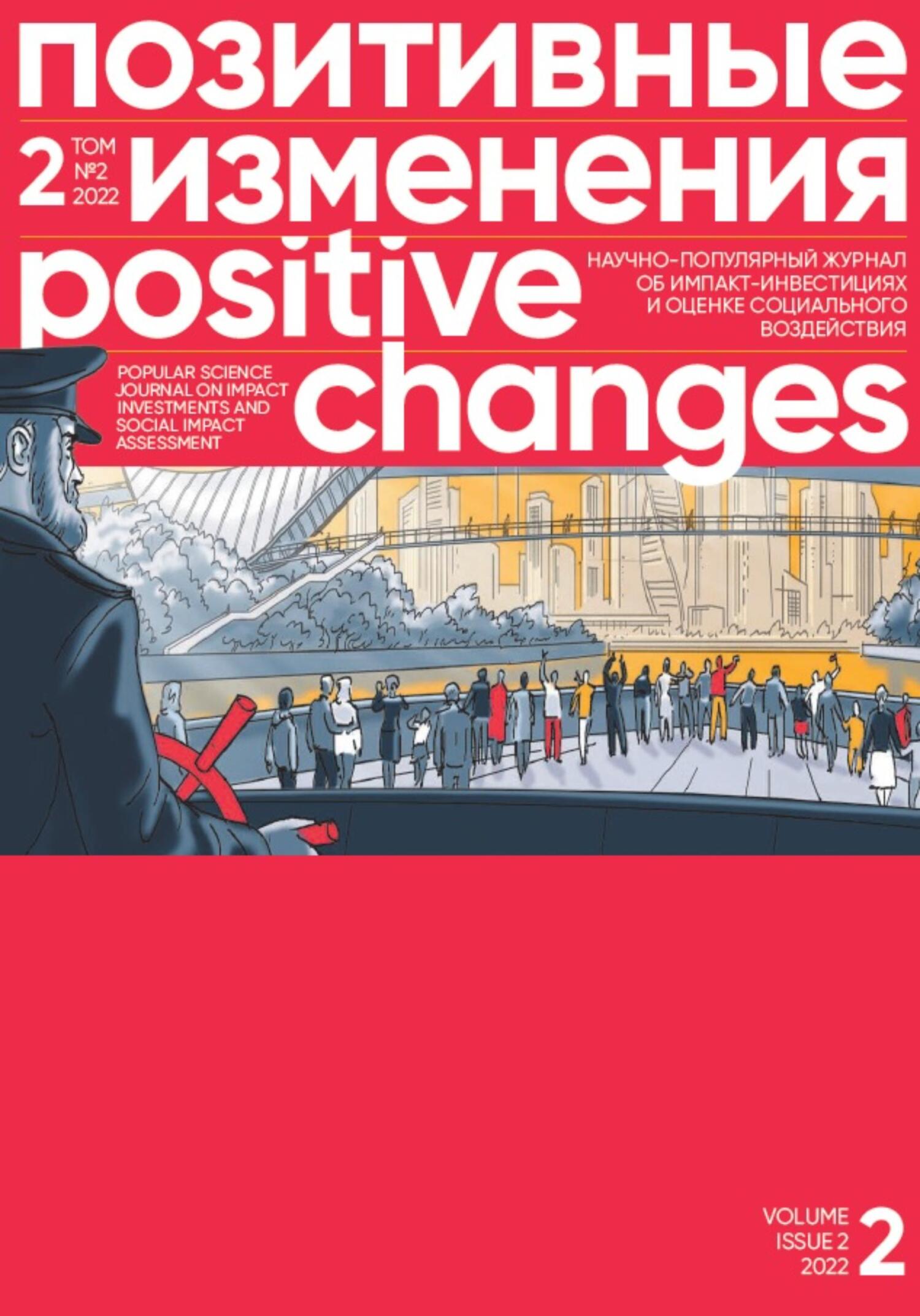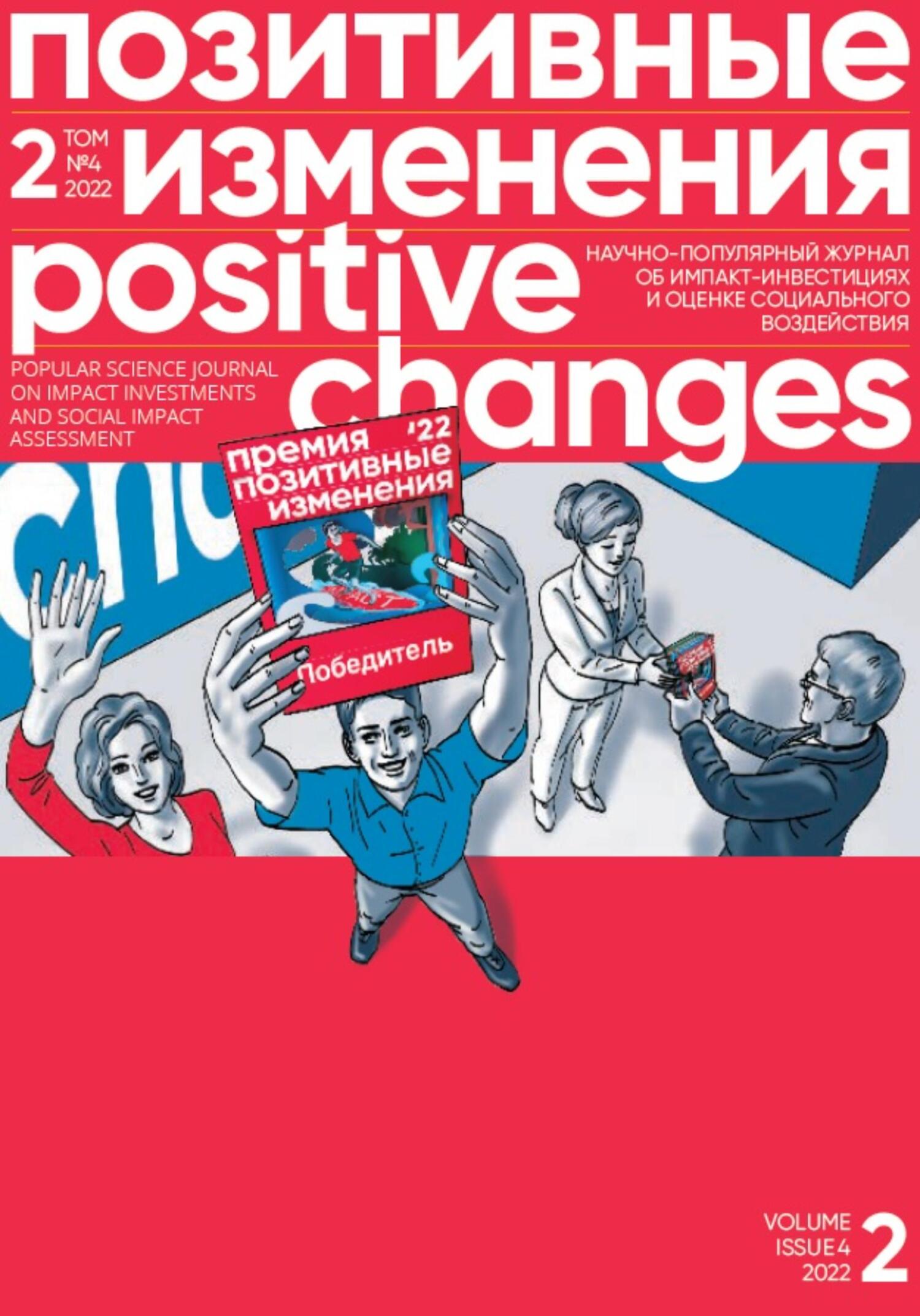был выражать.
Когда незнакомец вошел в лавочку, в которой выступ второго этажа и густые листья вяза вместе с расставленными на окне товарами производили род сумерек, улыбка его засияла так сильно, как будто он всеми силами старался противодействовать воздушной мгле (не говоря уже о мгле моральной, покрывавшей Гефсибу и ее жильцов) самостоятельным светом своей физиономии. Увидев молодую, цветущую как роза девушку вместо худощавой старой девы, он, видимо, был удивлен и сперва сдвинул брови, потом улыбнулся с более лучезарной благосклонностью, нежели когда-либо.
– А, вот оно как! – сказал он глубоким голосом, который если бы вышел из горла человека необразованного, то был бы выражением грубости, но от тщательной обработки сделался довольно приятен. – Я не знал, что мисс Гефсиба Пинчон начала свою торговлю с таким благоприятным предзнаменованием. Вы, я полагаю, ее помощница?
– Точно так, – ответила Фиби и прибавила с некоторым видом достоинства, потому что джентльмен, при всей своей учтивости, очевидно, принимал ее за молодую особу, служащую за жалованье: – Я кузина мисс Гефсибы и гощу у нее.
– Кузина? Не из деревни ли? Так извините меня, – сказал джентльмен, кланяясь и улыбаясь, как никогда еще никто не кланялся и не улыбался Фиби. – В таком случае мы должны познакомиться поближе, потому что, если только я не ошибаюсь самым печальным образом, вы также и моя родственница! Позвольте… Мери?.. Лолли?.. Фиби… да, именно Фиби! Возможно ли, чтоб вы были Фиби Пинчон, единственное дитя моего милого кузена и соученика Артура? О да! Я вижу по вашим губкам, что это был ваш отец. Да, да! Мы должны поближе познакомиться! Я ваш родственник, моя милая. Верно, вы слыхали о судье Пинчоне?
Когда Фиби присела в ответ на его вопрос, судья наклонился вперед с простительным и даже похвальным намерением, если принять во внимание близость родства и различие лет, и поцеловал свою молодую кузину в знак естественной родственной расположенности. К несчастью – без намерения или с тем инстинктивным намерением, которое не отдает уму никакого отчета, – Фиби в эту критическую минуту отступила назад, так что ее достопочтенный родственник со своим наклоненным над конторкой телом и вытянутыми губами очутился в странном положении человека, целующего воздух. Он представлял новейшее подобие Иксиона, обнимающего облако, и был тем смешнее, что гордился обыкновенно своею нерасположенностью ко всему воздушному и никогда не принимал призрака предмета за сам предмет. Дело в том – и это одно извиняет Фиби, – что хотя благосклонность судьи Пинчона и не была совершенно неприятна для женских глаз на расстоянии ширины улицы или даже обыкновенного пространства комнаты, но делалась чересчур поразительна, когда эта смуглая физиономия, поросшая жесткой бородою, которую не могла соскоблить с нее никакая бритва, хотела прийти в действительное соприкосновение с предметом своих взглядов. Фиби опустила глаза и, не зная почему, почувствовала, что сильно краснеет от его взгляда, хотя прежде она переносила без особенной щекотливости поцелуи, может быть, полудюжины кузенов, из которых одни были моложе, а другие старее этого чернобрового, седобородого, щеголеватого и благосклонного судьи! Почему же она не позволила ему поцеловать себя?
Подняв глаза, Фиби была удивлена переменой в лице судьи Пинчона. Она была так разительна, как между пейзажем, озаренным полным сиянием солнца, и пейзажем перед наступлением бури. В этом лице не было страстной напряженности последнего вида, но оно было холодно, жестко, неумолимо, как туча, скапливавшаяся целый день.
«Боже мой! Что теперь будет? – подумала деревенская девушка. – Он смотрит так, как будто он не мягче утеса и не снисходительнее восточного ветра! Я не хотела его обидеть. Если он действительно мой кузен, то я готова позволить ему поцеловать меня».
В то же самое время Фиби с удивлением увидела, что этот самый судья Пинчон был оригиналом миниатюры, которую показывал ей дагеротипист в саду, и что жесткое, суровое, безжалостное выражение его лица было тем самым, которое солнце выставляло с таким упорством. Следовательно, это было не минутное расположение души, но постоянный, только искусно скрываемый его темперамент.
Но едва глаза Фиби остановились снова на лице судьи, как вся его неприятная суровость исчезла для нее, и она почувствовала всю силу его знойной, как каникулярные дни, благосклонности.
– Прекрасно, кузина Фиби! – вскричал он с выразительным жестом одобрения. – Превосходно, маленькая моя кузина! Вы доброе дитя и умеете о себе заботиться. Молодая девица, особенно если она так хороша собой, должна быть очень скупа на поцелуи.
– Право, сэр, – сказала Фиби, стараясь обратить в шутку этот случай, – я не хотела быть суровою.
Впрочем, потому ли, что их знакомство началось так неудачно, или по другой причине она все-таки обходилась с судьей, соблюдая некоторую осторожность, что вовсе не было свойственно ее открытой и умной натуре. Она не могла освободиться от странной мысли, что ее предок-пуританин, о котором она слышала столько мрачных преданий, родоначальник всего поколения новоанглийских Пинчонов и основатель Дома о Семи Шпилях, скончавшийся в нем так загадочно, – что этот пуританин явился теперь собственной персоной в лавочку. В наше быстрое на переодевания время это нетрудно было бы устроить. Когда он вернулся с другого света, ему стоило только провести четверть часа у цирюльника, который бы тотчас превратил его густую пуританскую бороду в пару серых бакенбард, потом, сбегав в магазин готового платья, переменил бы свой бархатный камзол и черный плащ с богато вышитой фрезой на белые воротнички и галстук, на фрак, жилет и панталоны, наконец, отбросив оправленную в сталь шпагу, взял бы палку с золотым набалдашником, и полковник Пинчон, живший за два столетия до нас, выступил бы современным нам судьей.
Но Фиби имела столько ума, что могла допускать эту мысль не иначе, как только для шутки. Кроме того, если бы оба Пинчона явились перед ней вместе, то она заметила бы между ними много разницы и нашла бы только некоторое сходство. Длинный ряд лет в климате, столь непохожем на тот, в котором вырос предок, должен был неизбежно произвести значительные перемены в физическом строении потомков. Судья едва ли мог сравниться с полковником объемом тела. Хотя он считался полновесным мужчиной между своими современниками и был очень развит в физическом отношении, однако ж мы думаем, что если бы взвесить нынешнего судью Пинчона на одних весах с его предком, то надобно было бы прибавить по крайней мере одну старинную гирю в пятьдесят шесть фунтов, чтобы привести чашки в равновесие. Лицо судьи потеряло багровый английский цвет, который так сильно пробивался сквозь загар закаленных бурями щек полковника, и приняло бледно-желтый оттенок, характеризующий комплекцию