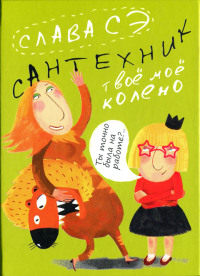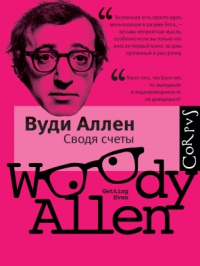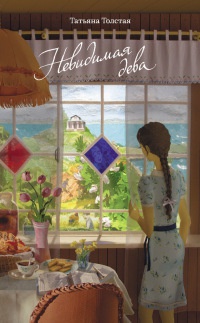Но что особенно обращает на себя внимание в этих расстрелах, так это то, что расстрелы проводились не в одиночку, а целыми партиями, по нескольку десятков человек вместе. Расстреливаемых раздевали донага и выстраивали перед вооруженными отрядами. Указывают, что при такой «системе» расстрелов некоторым из осужденных удавалось бежать в горы. Ясно, что появление их в голом виде почти в сумасшедшем состоянии производило самое отрицательное впечатление на крестьян. Они их прятали у себя, кормили и направляли дальше в горы. Насколько все соответствует действительности, трудно сказать, но это утверждают почти все центральные и местные работники.
Такой бесшабашный и жестокий террор оставил неизгладимо тяжелую реакцию в сознании крымского населения. У всех чувствуется какой-то сильный, чисто животный страх перед советскими работниками, какое-то недоверие и глубоко скрытая злоба…»
Из доклада в ЦК РКП (б) Мирсаида Султан-Галиева, представителя Наркомата по делам национальностей РСФСР, изучавшего обстановку в Крыму в апреле-мае 1921 года
Следом за выстрелом и ежеутренним обещанием сегодня же «всех перешлепать» из угла большой классной комнаты раздался вой. И вздрогнул вооруженный товарищ Федор, потому что в висках – вопреки рассудку – забилось: «Волки!» И словно бы зазвучал голос совсем иной жизни, которой так нужна Федькина смерть, и тот, еще крепче сжимая маузер, закрестился, мысленно прося у товарища Куна… Белы… прощения за то, что опять поддается старорежимным привычкам, что гады-арестанты при появлении грозного чекиста до сих пор не обоссываются, а сам грозный в который уж раз к этому близок.
– Э-э-х, ба-а-а-тьк-а-а! – выл Шебутнов, – Э-э-х, Н-е-е-ст-ор Ив-а-а-ны-ы-ы-ч!!
Примерно месяц назад бывший подполковник, донельзя заросший рыже-седой бородой, столкнулся с Бучневым и Павлом у ворот феодосийского порта. С шинелью и мундиром он расстался, по-видимому, давно, и теперь – в сползшей на брови полупапахе, в армяке, не скрывавшем несвежести нательной рубахи, в явно «с чужого живота» брюках, повисших на обтрепанных подтяжках, походил на закоренелого бродягу.
– Павел Рудольфович, вот так удача! Здравствуйте, рад вас видеть невредимым. А вы, если не ошибаюсь, Георгий Николаевич? Вас также рад приветствовать!
Бучнев суховато кивнул, а Павел сделал вид, что протянутой руки не замечает. Шебутнов ничуть тому не удивился.
– Павел Рудольфович, в те несчастные дни ноября я вел себя премерзко, но поймите состояние боевого офицера, вынужденного наблюдать, как гибнет Россия. Поймите, прошу вас, и простите!
От былых обид Павла и предубежденности Георгия не осталось и следа – и состоявшиеся тут же рукопожатия носили характер: «Ура! Нашего полку прибыло!»
– Пришел пропитание хоть какое-то раздобыть, – сообщил Шебутнов. – Здесь оно должно быть дешевле, чем на базаре. Кстати, хорош люд базарный! Верите, последние события анализирует куда искуснее штабных стратегов. А вы, господа, тоже за едой сюда пожаловали или задумали сбежать через это окно?
С прошлого ноября, когда на всем, что могло доплыть до Турции, эвакуировались из Крыма почти 130 тысяч человек, солидные суда в порты полуострова не приходили. Лишь иногда приплывали на крохотных суденышках плюющие на риск оборотистые турки и доставляли – в те гавани, что поменьше, – муку, рис, тронутые плесенью лепешки, изюм и сушеный инжир.
Разгружать надо было мигом, пока не набежали чекисты, или бойцы ЧОН[18], или еще кто-нибудь, злой и вооруженный. Георгий сколотил небольшую сноровистую бригаду, а Павла, раненая нога которого при частых весенних переменах погоды давала о себе знать, поставил учетчиком.
Скупавшие товар оптом торговцы-татары узнавали о прибытии фелук заблаговременно – разве что голубиной почтой их извещали, ведь никакая другая не работала. Утром любого дня недели, кроме благословенной для мусульман пятницы и почитаемого христианами воскресенья, мог появиться на пороге снимаемой Бучневым мазанки посыльный, сказать уважительно: «Салам, урус! Хозяин сказал, нужен будешь», – и вскоре собирались у причала жилистые мужики, пожевывали что-нибудь затвердевшее, поплевывали коричневой от самосадного курева слюной, поминали бога, черта и неизвестно чью мать, породившую этот кавардак, и ждали, высматривая горизонт.
Вот показался косой парус… Еще несколько минут прикидывали, только ли под ним идет фелука или помогает коклюшно кашляющий мотор… Потом разминали мышцы ног, укладывали на плечах плоские подушки – и!..
И быстро, быстро, еще быстрее! Бучнев легким, ловким движением накидывает мешок, точнехонько распределяя тяжесть – ай, бригадир! ай, стивидор! ай, молодца! один за двоих справляется! – и груз на плечах лежит ладненько, как привычная одежа… Быстро, ребя, быстро, еще быстрее – по сходням вниз, к подводам, там поклажу долой – и обратно… Сходни гнутся, скрипят… Нехай! Коли люди выдерживают, то и доски сдюжат!
И – под следующий мешок!.. Учетчик, ты, паря, не зевай, турки завсегда обдурить пытаются!..
Здоров, однако, стивидор, даже не вспотел! Как по заказу для работенки нашей сделан, да еще и плавать горазд… Далеко плавает – в десятикратный бинокль не углядишь…
Не, правду говорят, будто мы, крымские, одесских биндюжников послабже… А волжским или там балтийским вообще впору к титьке мамкиной возвращаться!..
Да не одесский он! Бабы талдычат, будто казак донской… Так ведь едина хрень – не местный!..
Все, баста!
…Расплачивались купчишки товаром, норовили обсчитать или всучить совсем уж дрянь продукт, но Павел оказался цепок – взыграла итальянская половинка. Сражался «кётью еркек» – вредный парень, так прозвали его по-татарски, – за каждый грамм, а присутствие рядом молчаливого и оттого еще более грозного «бёйюк киши» – огромного мужика – исход сражений предопределяло.
Отъелись, выменивая часть полученного на бастурму, брынзу и кофе; потом приоделись в добротное, пролетарское – и чем ближе было лето, тем осуществимее казались планы: перебраться в Одессу, поклониться там родным могилам – и, вместе с Бучневым-дедом, в Румынию. А оттуда куда-нибудь подальше: в Австралию, например, или в Южную Америку, где нынешний российский кошмар, да и недавний европейский, – быстро забудутся.
Не исключено, конечно, что там творится какой-нибудь свой кошмар, ну, так это он для тамошних, коренных – свой, а для Бучнева и Павла будет почти что чужим.
А чужой кошмар – не совсем кошмар.
«Конечно, прав был Дантон, – горячился Павел, а Георгий согласно кивал, – родину не унесешь на подошвах башмаков. Но в сердце унести – можно!»
Однако рассказать они Шебутнову ничего не успели: со всех улиц на площадь выкатили грузовики, из которых, щелкая затворами, посыпались чоновцы.