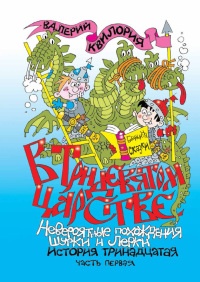наверняка прослезилась бы и сама. Но тут сдержалась и твердо предупредила:
— Вот сразу тебе говорю, пока никто тебя не перехватил; завтра вечером к нам приходи. Сварю твоих любимых вареников. И вы все приходите, — обратилась она к мужикам.
— Тогда днем к нам, — крикнул Неботов.
— А ко мне когда? — развел руками Гаврюшка.
— Дак и ко мне ж надо, Вась? — отозвался Федор. — У меня дело есть — «Москвича» получил.
— График составим, — предложил Гаврюшка, и все засмеялись.
— Теть Грунь, — растроганно обратился я к тетке, — у вас вареники, конечно, лучшие в мире. И угощали вы меня разными вкусными вещами много-много раз. А запомнилось знаете что? Бураки! Вареные бураки в тридцать втором году!..
— Во! Приходи — наварю: бураков нынче у нас много! — тут же перевела она разговор на шутку.
Вскоре пришел Карпо, поздоровался степенно со всеми — каждому руку протянул и, став в сторонке, полез в карман за папиросами.
— Подожди, не закуривай, — остановила его мать. — Все собрались? Дак идите уже за стол, люди истомились. Где кума?
— Щас идет, — сказал Карпо, пряча папиросу в пачку. — В погреб зачем-то полезла.
— Так все уже есть — на столе. Што она там ишо придумала?
— Не знаю… То дело ее.
— Ивана мого где-то черти держат, — проговорила тетка Груня. — Ждать не будем: семеро одного не ждут.
— Идет твой Иван, — сказал Гаврюшка и кивнул на огород.
Высокий, пригибаясь под ветками, Иван Михайлович в синей сетке нес два огромных соленых арбуза.
— Да или у тебя до сих пор соленые кавуны? — удивился Платон. — Уже скоро новые будут, а у него еще соленые не вывелись.
— И правда, где ты их взял? — удивилась и тетка Груня.
— Где? В кадушке, где ж, — сказал Иван Михайлович, улыбаясь. — Полез — рассол хотел вылить — и нашел.
— Брешет, — покрутила головой тетка Груня. — Нарочно держал: может, Вася приедет. Ждал?
— Ну а хоть бы и так? — Иван Михайлович протянул сетку матери. — Один разрежь — тут на закуску, а другой нехай повезет в Москву. У вас же там нема таких? — спросил Иван Михайлович, пожимая мне руку.
— Откуда же? Нет, конечно…
— Ну, теперь, кажись, все, — сказала мать. — Вон и Ульяна идет. Идите в хату, пора уже за стол.
И тут, откуда ни возьмись, голос с улицы:
— Привет, Кузьмич! С приездом!
Все обернулись на голос. Вижу: Илья Солопихин — друг детства моего. Машет рукой, переходит с той стороны улицы на эту, поближе. По лицу видать — навеселе. Кепка свернута набок, рубаха расхлыстана.
— Ой, боже мой! Илья! Да ишо пьяный! — прошептала мать. — Достоялись…
А он уже толкнул ногой калитку, во двор вошел. Руку вытянул вперед — приготовил для приветствия, из всех видит одну мать, к ней и обращается:
— Тетка Нюрка, вы меня не ругайте. Я только поздоровкаюсь с Кузьмичом. Мы ж с им в школу вместях ходили! Верно, Кузьмич? — И он облапил меня. — Уважаю я тебя, Кузьмич! — признался вдруг он. — Одну вещь я тебе, Кузьмич, никогда не забуду!
— Какую, Илья? — насторожился я.
— Да ты не бойсь — вещь хорошая, добрая. — И к матери: — Теть, правда. Не поверите? В тридцать втором годе дело было. Голод был страшный. Пухли от голода. Весной мы с братишкой — с Игнашкой — ховрашка выловили и сидим жарим на костре. И вдруг идет Кузьмич. — Илья́ указал на меня. — Идет и несет три бурака. И один отдал нам. А был же голод…
— Во, и этот про бураки вспомнил! — удивилась тетка Груня. — Да што на вас нашло?
— Это ваши бураки были, — сказал я.
— Да ты ж Ивану не выдавай меня, он же не знает, я украдкой от него давала.
— Ну да, не знаю! — отозвался Иван Михайлович. — Думаешь, только ты все знаешь?..
А Илья не выговорился еще, ждет, когда кончат говорить, крутит головой — подождите, дайте я доскажу. Не дождался, ударил меня в грудь:
— Душа у тебя добрая, Кузьмич. Голод, а ты отдал… Спасибо. — И, обращаясь ко всем, добавил: — И еще хлопотал после, шоб Никита мне сухарей дал. Во! Никита принес мне потом хлеба и кусок сала и рассказал все. — Илья взглянул на Карпа: — А сухарей у тебя, Романыч, тогда уже не было… — Помолчал и спросил у Карпа: — А ты, Романыч, и сейчас, наверное, сушишь сухари? А? Сушишь ведь?..
— То не твое дело, — сказал Карпо резко. — Выпил — дак и иди своей дорогой, не приставай к людям.
— Да ты не серчай, Романыч. Шо ж тут такого?..
— Ниче такого, — обиделся почему-то крестный. — Сушил — не сушил, а ховрашков не ел.
— А я отказываюсь? — сказал Илья. — Голод же был…
— Ну вот, уже завелись, — подала голос мать и, подобрев к Илье, пригласила и его в комнату.
— Не, теть, не могу… Пойду домой. Мне и так достанется на орехи: у меня ж жинка — культурная сатана, не любит даже запах. — И он, подняв руку к своему носу, поморщился брезгливо. — Пойду. Прощевайте. — Илья пожал мне руку, остальным помахал и направился со двора.
Я смотрел в согбенную спину Ильи и чувствовал, как на меня накатывает грусть, тоска по чему-то далекому и невозвратному. Мне сделалось почему-то неловко от нашей встречи, а вернее — от расставания: вот так накоротке, мимоходом…
Чтобы как-то погасить в себе эту неловкость, бодрясь, на шутейной волне я спросил:
— Илья, голубей держишь?
— Хо, вспомнил! — Он обернулся. — Не, давно бросил. Родя Чуйкин занимается голубями. Помнишь, как нас гонял? А теперь сам. Развел сизарей. Снимутся, будто стая воронья, и летят в поле кормиться. На мясо держит, как курей, а не кормит. — Он взглянул на Карпа: — И Романыч от него не отстает. — И быстро, чтобы не дать Карпу обидеться, добавил: — Но Романыч кормит, а тот своих на колхозное поле переключил. Все перевернулось, Кузьмич: раньше мальчишки голубей водили, а теперь пенсионеры. Если доживу до пенсии, может, и я разведу. Только не сизарей, а таких, шоб глазу приятно было. — И он, прищурившись, взглянул в небо, будто там парили его голуби.
Илья ушел, и мы медленно, будто нехотя потянулись в дом, к столу. Здесь я оказался между дядьями: слева сидел Платон, справа — Карпо.
Гости разговорились, пошел общий гомон. Карпо обернулся к жене, спросил у нее вполголоса:
— Рази у нас перед войной был чувал с сухарями?
Та удивилась вопросу, но, взглянув на меня, поняла, что это касается какого-то нашего разговора, сказала решительно:
— А то нет! — Она говорила громко, вызывающе, заранее