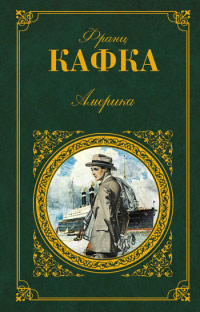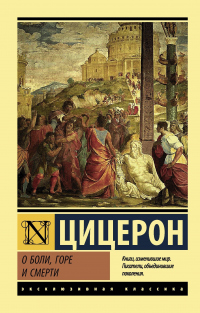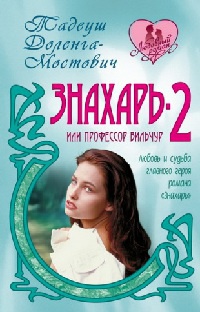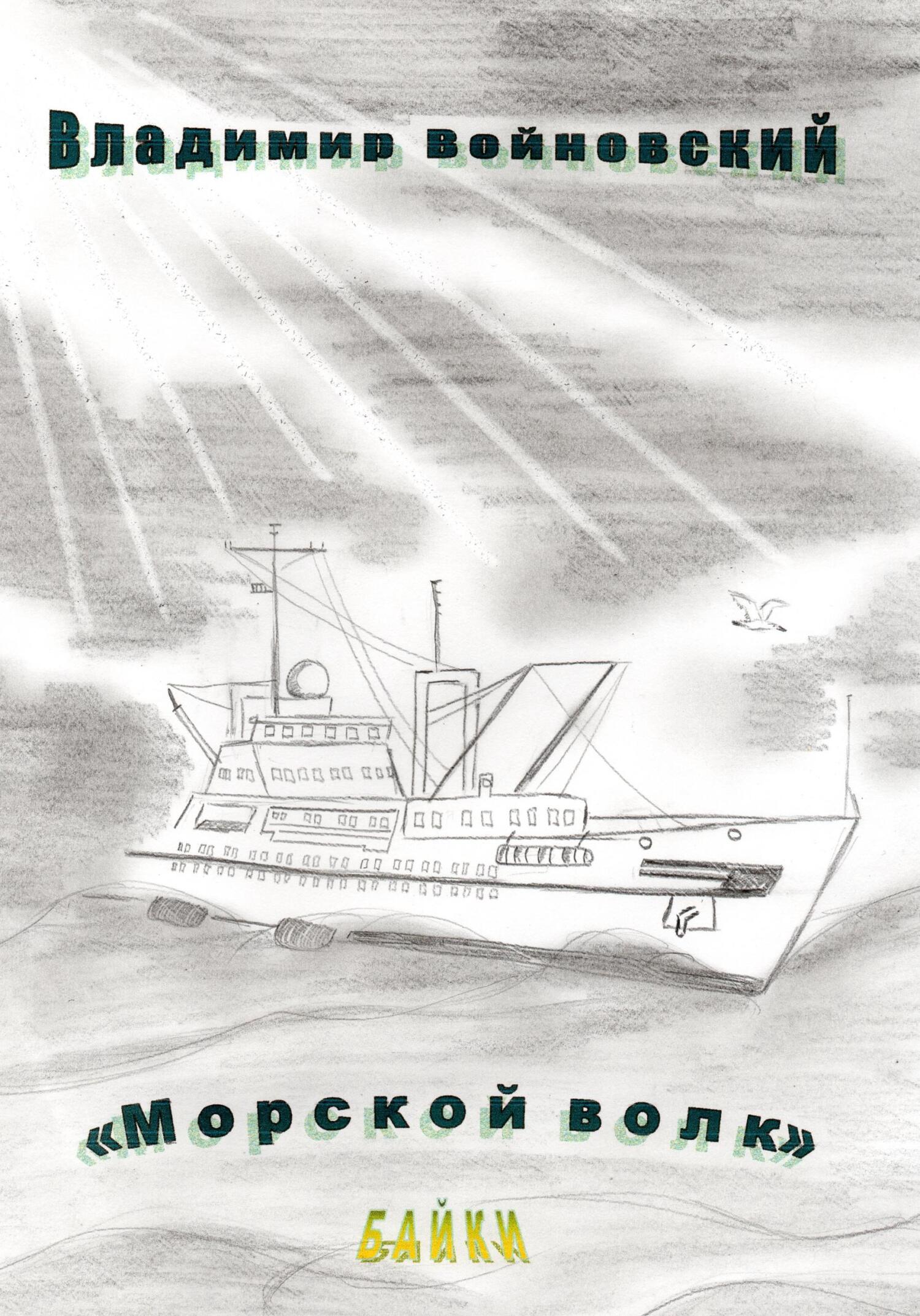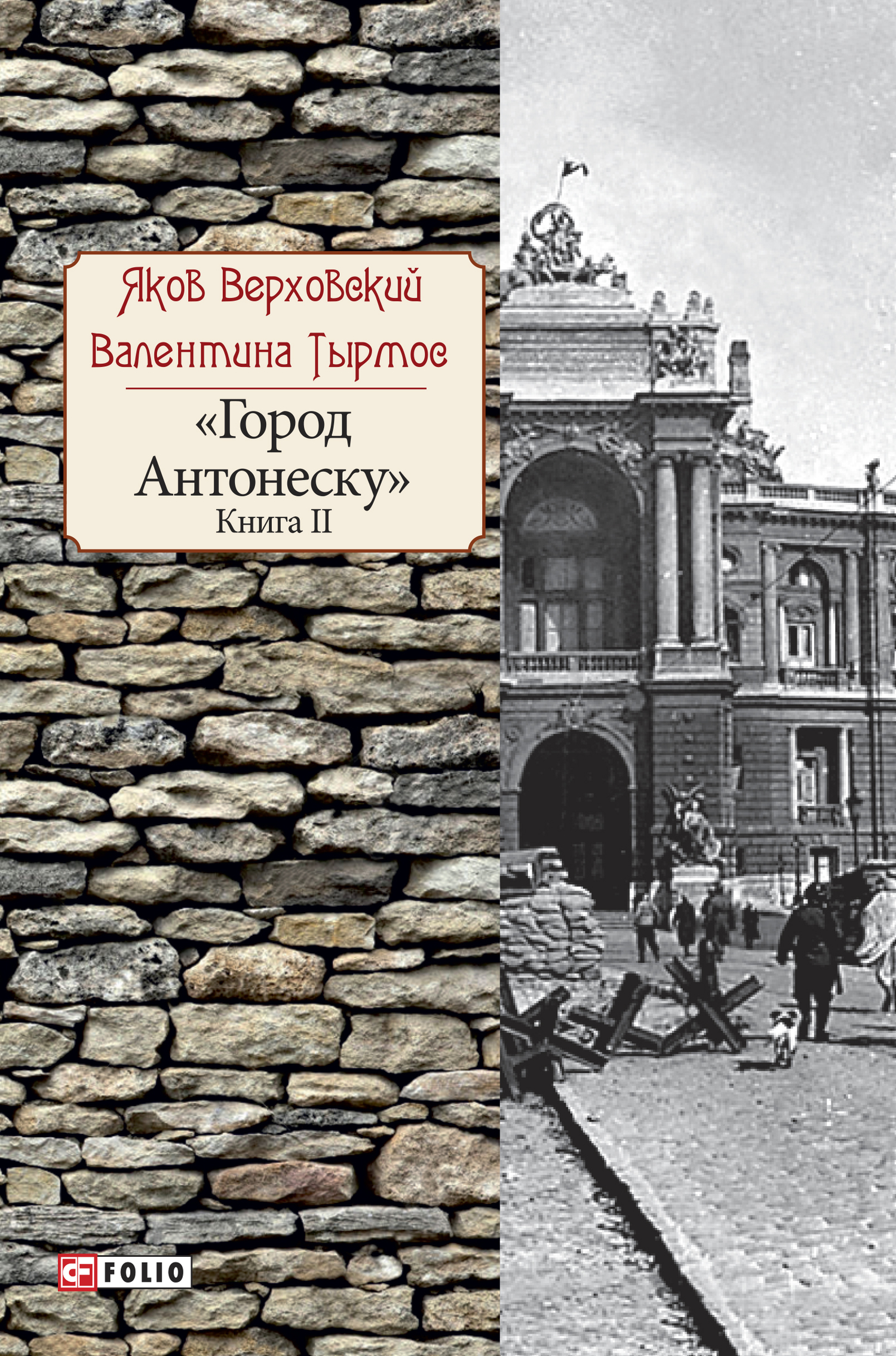волны истории проникали в трещины между зданиями и названиями улиц, продуктами и группами сообществ. В этом районе тоже были свои трещины, каким-то чудом встроенные в человеческий каркас, который некий поэт назвал «гигантской закаленной тканью». Люди перемещались, как птицы, через моря и континенты. Как тот художник, создавший дерево из стекловолокна.
Бывали у меня приключения и неподалеку от дома. Однажды, выходя из дома, я услышал звон колокольчиков. Импульсивно перейдя дорогу, я свернул к желтым каменным воротам церкви, увенчанным тремя жуткими черепами, вырезанными из камня. Ворота вели в небольшой мощеный сад с увядшими цветами магнолии и покосившимися серыми надгробиями. За ними располагалась трехъярусная часовня, соединенная с квадратной каменно-кирпичной башней, «пострадавшей от бомб во время Великой Отечественной войны в 1941 году и восстановленной в 1950-х».
Церковь была открыта, но пуста, ее средневековый деревянный потолок возвышался надо мной замысловатым узором из балок и перекладин. Скамьи, заваленные сборниками гимнов и литургий, стояли молчаливыми, ожидающими рядами. Керамические святые стояли на высоких подставках, у ног расплывались восковые лужицы. За алтарем в большом, богато украшенном окне я увидел изображение Христа, странно напоминавшее картину, висевшую над камином в гостиной моих родителей, – голова с нимбом, проткнутые ладони и горящее священное сердце. Я прошелся по церкви, расшифровывая истории на витражах: Благовещение и Тайная вечеря, Иисус на разных стадиях осуждения и воскресения. На пути к выходу я чуть не споткнулся, наткнувшись на исповедальню из темного дерева, искусно вырезанную и стоявшую на постаменте. Куда более изысканную, чем та, куда меня водили в детстве.
Вспоминая, я думаю, что это было кошмаром.
Я вновь ощущаю свой страх с удивительной ясностью, когда в памяти встает узкое, пещерное пространство нашего городского собора, залитое благовониями, окропленное неистовой яростью молящихся. Бестелесный голос скрытого от глаз священника, плывущий сквозь деревянную панель. Через служение Церкви я даю вам прощение и отпущение грехов. И что хуже всего, когда я стал старше, я не знал, в каких «грехах» мне следует признаваться. Часто я их придумывал – драка, грубый ответ, ложь учителю истории – и приукрашивал деталями. Одни и те же грехи перетасовывались и переосмысливались, чтобы можно было утаить другие.
Мои мысли, мои встречи. То, чем мы с одноклассником занимались в укромных уголках школы. Мальчик, сидевший со мной на уроке математики. Девушка, подруга моей сестры, которая дразнила и соблазняла.
Поэтому, когда меня заставляли каяться, повторять слова молитв, быстро бормотавшихся, я всегда лишний раз добавлял «Радуйся, Мария» или «Отче наш». Так, на всякий случай.
Мои посещения храма стали реже и полностью прекратились, когда я переехал в Дели. Николас сказал, что находит мое католическое воспитание очаровательным – мне суждено было жить радостной жизнью, отягощенной чувством вины. Если бы не…
– Если бы не что?
Если бы мне не довелось полностью обратиться в новую веру.
И он добавил к этому нелепое:
– Иди сюда… позволь мне крестить тебя.
Я все еще улыбаюсь, когда вспоминаю об этом.
Церковь была тихой и пустой. Никто не видел, как я вошел в исповедальню. Она была меньше, чем та, которую я помнил, темной и замкнутой, отделенной от мира замысловатой филигранной перегородкой. Пахло влажным выветрившимся ладаном, сладко-горьким ароматом упрека. Прости меня, Отец, за то, что я согрешил.
Иногда, даже если я отстоял всю службу, катарсиса не наступало.
Когда я вышел из церкви, колокола смолкли, вечер погрузился в тишину. У подножия церкви, возле дверей, стояла юная девушка в облаке золотистых волос, в цветастой юбке и зеленом кардигане.
– Здрасьте, – она улыбнулась. Она была хорошенькой, младше двадцати, и несла в себе всю свежесть английского пейзажа. – Вы слышали, как звонили колокола?
Я покачал головой.
– Увы, нет.
– Ну ладно, – махнув мне рукой, она поднялась по лестнице, извилистой и узкой, и скрылась.
Часто поздно вечером, вместо того чтобы идти сразу домой, я бродил по Гудманс-Ярд, вдоль Манселл-стрит. Здесь дороги были у́же, оживленнее, не такими чистыми и блестящими. Я заходил в работавшее допоздна кафе, где два брата-ливанца, один тихий, другой разговорчивый, подавали кебабы, и садился за пластиковый столик, шатавшийся при каждом касании. Ярко-белый свет беззастенчиво освещал бутылки из-под кетчупа, грязные кафельные стены и стеклянные прилавки, захватанные пальцами. Но кебабы здесь были мягкими, теплыми и при каждом укусе сочились кремовым майонезом. Некоторые посетители, забрав свой заказ, останавливались поболтать. Тихий брат работал в дальнем углу, снимал мясо с вертящихся шампуров. Он был выше и стройнее другого, выглядывавшего из-за кусочков, блестевших в ряд, как фазы луны.
Как-то, забыв о кебабах, он взялся рассказывать всем желающим о ките.
– Я только приехал в Лондон, думал – ну и чего мне тут торчать? Небо серое, ноги мерзнут, денег нет… как они говорят, черные дни. Вон спросите хоть у брата.
Мне показалось, что брат молча кивнул в знак согласия.
– Ну вот, шел я вдоль реки и думал, что нечего мне тут торчать, и что же я вижу?
– Что? – хором откликнулись посетители.
– Что-то плавает в воде. И я думаю – что такое? А я-то уж всякое повидал. И знаете, что это было? – он поставил обе руки на прилавок. – Кит!
Все ахнули.
– Если вы думаете, что я шучу, то я вот вообще не шучу. Это был, мать его, кит. И я подумал, раз уж кит тут остался… то и я останусь.
Стены крошечного кафе затряслись от хохота. Махнув на посетителей рукой, ливанец принялся искусно и быстро заворачивать кебабы. Долька томата, кусочек лука, щедрая порция салата.
– А что стало с китом? – спросил я. – Он по-прежнему здесь?
Ливанец поднял руки в воздух.
– Подох, бедняжка. Но… Аль-Ха́мду ли-Лля́х… я-то по-прежнему здесь.
Я допил сладкий безалкогольный напиток, подождал, пока успокоятся пузырьки в горле.
– Салам! – закричал владелец кафе мне вслед.
Салам.
Я запомнил это все, потому что это напоминало пророчество.
Он, Кассандра наших дней, и я, единственный в целом мире, кто ему поверил.
Разве не этого мы все ищем? Знака, сигнала о грядущих событиях, указателя, маркера того, как жизнь развернется перед нами?
Пророчества – самое научное из сверхъестественных явлений, поскольку они, как и наука, приводят к единственному результату. Единственной правде. И все-таки…
И все-таки вселенная постоянно меняется, наполняясь бесконечными возможностями и бесконечными результатами. Сила пророчеств заключается в их самоисполнении. Это умышленное сужение времени, когда будущее, при всей своей бескрайности и изменчивости, стягивается до размеров двери, сквозь которую вы идете, все моменты сливаются в один, образуя коридор, линию на карте, указатель дальнейшего. Пророчество можно схватить и удерживать нашими