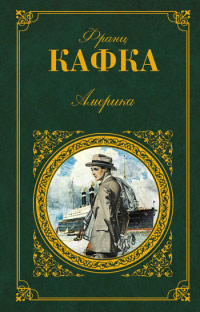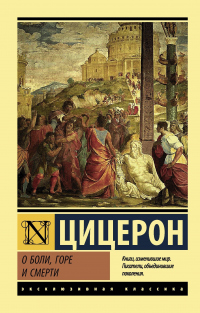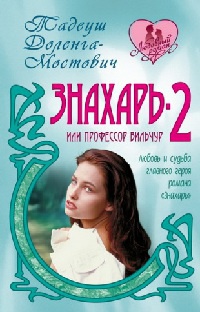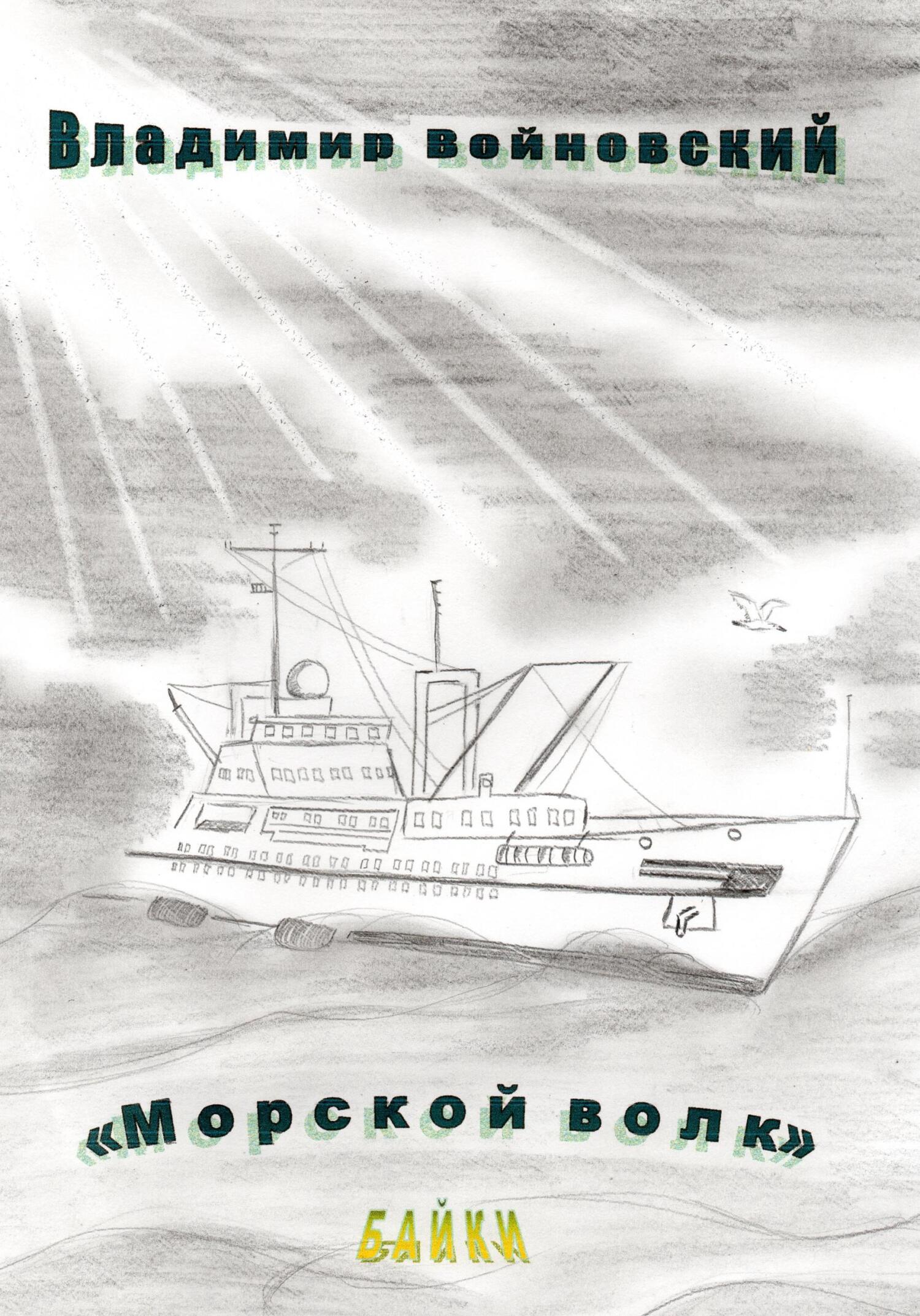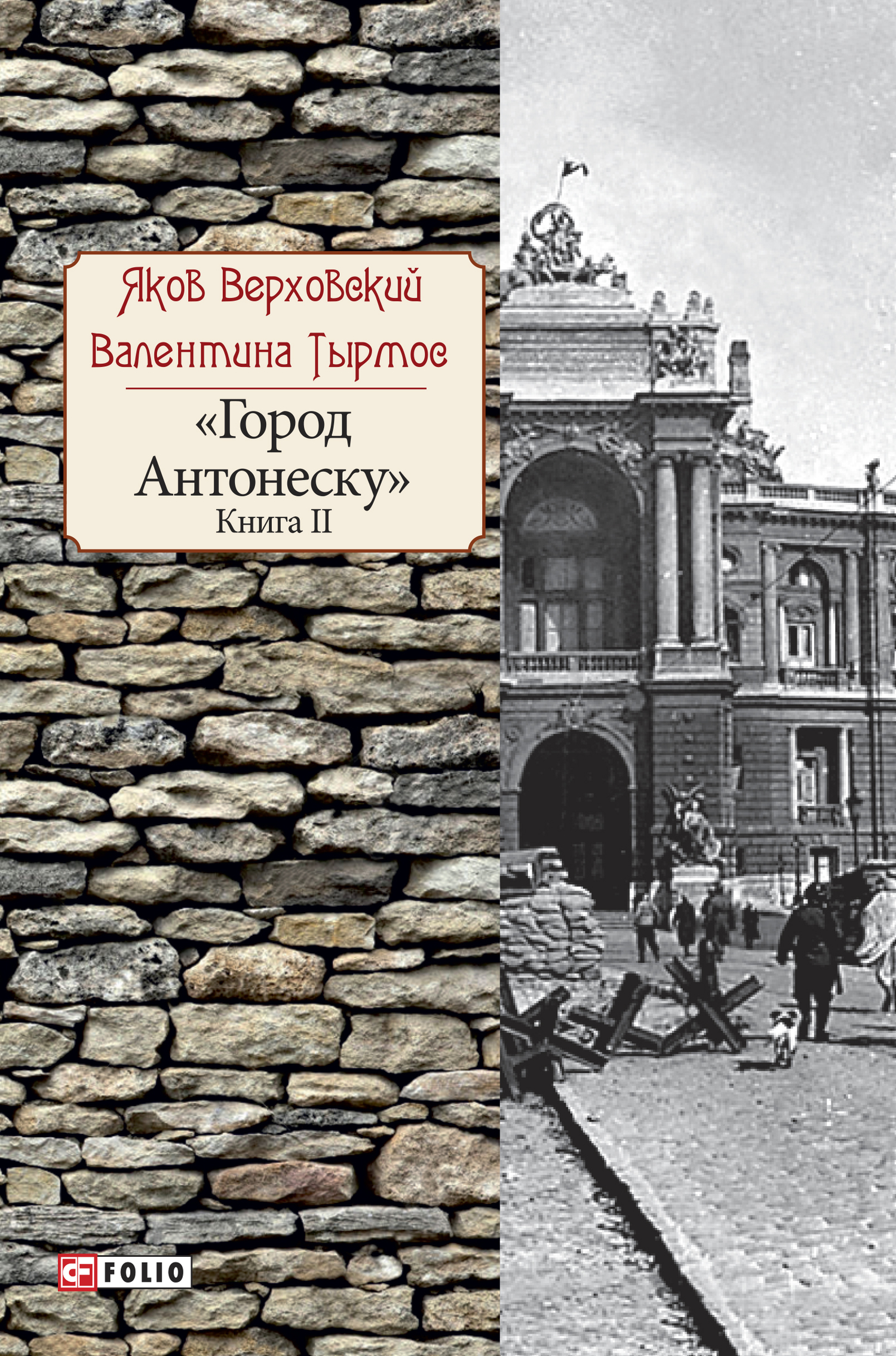сияло солнце, повозку тащила четверка крылатых коней. Здесь было движение и живые цвета, фигуры и орнамент ярко блестели на сияющем черном фоне.
Но все это ничего мне не говорило.
Я подумал, что Николас вряд ли имел в виду буквальный смысл. Меня остро мучило чувство, что он давал мне разгадку, но я не знал, к чему должен прийти – может быть, как в причудливой охоте за сокровищами, ответ приводил к новому вопросу. Но я не сомневался – что-то пропущено. Я смотрел в глазок, не понимая значения картины, которая была гораздо сложнее и завершеннее меня.
Но разве так было не всегда?
С Николасом? Со всем, что связано с Николасом?
Я доставал из прошлого моменты жизни, держал их в руках, внимательно разглядывал, как редкие драгоценные камни, и клал на место, по-прежнему терзаясь непониманием.
Это становилось одержимостью. Я часами напролет искал его имя в Интернете. Находил обрывки. Упавшие крошки. Он был приглашенным научным сотрудником в Турине, недолгое время – ассистентом в Нью-Йорке, приезжал с лекцией, несколько лет назад, в институт стран Азии в Венеции. Конференции в Чикаго. В Брюсселе. Теперь мне казалось, что, где бы я ни искал, я повсюду нахожу его следы. В настоящее время он преподавал в университете приморского города. В часе езды от Лондона. Так легко, так искушающе легко добраться.
Билет, шаг в поезд. Короткое, легкое путешествие.
Он никогда не был так близко.
Как-то вечером мы с Сантану и Ярой смотрели спектакль. Если его можно так назвать. Для «Действия без слов» Беккета я был как раз тем самым – мимом. Мы выбрались далеко за пределы наших привычных зон комфорта. Яра, по ее словам, предпочитавшая жить на окраинах городов, знала об этом театре в пригороде, на дальнем юго-востоке, в районе чуть ниже глубокого изгиба Темзы.
– Нам нужна виза? – поддразнил ее Сантану, пока мы добирались туда, сперва в поезде от Кингс-Кросс до Лондонского моста, кишевшего посетителями, а потом, пересев на другую ветку, ехали в Дептфорд. Вместо ответа она чуть пихнула его в живот. С самой первой встречи у Евы им было удивительно легко друг с другом, это было заметно – судя по тому, какой расслабленной она была, сидя рядом с ним в вагоне, как он касался рукой ее руки, когда мы входили и выходили. Мы с Евой, конечно, это обсуждали, но когда спросили у Сантану, он загадочно ответил, что «все идет как идет».
– Он невыносим, – жаловалась Ева, ожидавшая благодарности за то, что их познакомила, и я согласился, уже хотя бы потому, что это было совершенно очевидно. Когда Яра была рядом, он следовал за ней – не в буквальном смысле, конечно – ища ее близости. Ощущая ее, как замерзший путник ощущает огонь.
Поэтому, когда мы вышли на Дептфорд-Хай-Стрит, я не удивился, увидев, что они держатся за руки, переплетя пальцы в знакомой беззаботности. Дорога представляла собой сплошную этническую неразбериху: евро-афро-фьюжн кухню, китайские супермаркеты, вьетнамские рестораны, халяльные мясницкие лавки – и когда мы добрались до театра, он показался нам поразительно простым, кирпичным и тихим. Мы по-быстрому выпили в баре и переместились в темный зал.
Сцена была пуста.
Мало что осталось со мной надолго. «Итака» Кавафиса, «Ноктюрн фа мажор» Шопена, игра Харипрасада Чауразии[29] в «Музыке в парке», короткометражки Кесьлевского[30] о любви, «Книга непокоя» Пессоа[31]. Я полагаю, что величайшие произведения искусства становятся всеобщими историями.
Это было кратко. Содержательно. И длилось всего сорок минут.
Человек застрял на сцене. Явно не в состоянии найти выход. Имея при себе несколько предметов – ножницы, кусок веревки, кубики различного размера, пальму. И вещи, которые у него забирали – например, графин с водой, постоянно перевешиваемый вне его досягаемости. Когда все закончилось, актер остался стоять посреди пустой сцены, глядя на свои руки.
Сантану и Яра обсуждали спектакль по пути домой – в одиннадцать в вагоне стало куда тише.
– Это бихевиористский эксперимент, – сказал Сантану, – в рамках классического мифа. Помнишь Тантала, обреченного стоять по горло в воде, которую он не мог зачерпнуть, и под фруктовым деревом, до которого не мог дотянуться?
– Но Тантал был наказан за что-то, – заметила Яра. – Украл эликсир богов, что ли? А здесь человек наказан за то только, что существует.
Мы почти добрались до Лондонского моста, откуда мне удобнее было свернуть к дому, чтобы они продолжили путь вдвоем. Я подумал, что будет правильнее придумать причину и отделиться от них.
– А ты как думаешь? – спросила она, поворачиваясь ко мне. Я пожал плечами.
– Может быть, это притча.
– О чем?
– Об упорстве. О том, что мы испытываем разочарование за разочарованием, но не останавливаем попытки. И может быть, в конце мы обретаем маленькую победу… сознательное желание не подчиняться. Иронично, что главный герой наиболее активен, когда инертен. Лишь тогда его жизнь обретает смысл.
Это, решил я, самый правильный способ вести себя с Николасом.
Не делать ничего.
Я позволил городу меня увлечь.
Я был здесь меньше года; пора было извлечь из этого максимум пользы. Я был полон решимости, и никто, даже Николас, не мог лишить меня этой решимости. Я не собирался повторять историю с Дели в последний год учебы в университете, когда даже взгляд, брошенный на хребет с другой стороны лужайки колледжа, вызывал отчаяние. Потеря становилась еще невыносимее оттого, что я находился там, где все напоминало о нем. Сначала я повсюду ощущал его присутствие – в кафе и комнате для старшекурсников, в тени деревьев и коридоров, на лесных тропинках, – а потом и это ушло. Я часто, сколько ни убеждал себя, проходил мимо бунгало на Раджпур-роуд, но оно по-прежнему пустовало. Родители Малини, по крайней мере, пока я не закончил учебу, не вернулись. Все, что я помню об этих месяцах – мою голодную тоску.
Возможность вырваться в Лондон стала подарком, и, черт возьми, я собирался воспользоваться им по полной программе.
Я решительно бродил по недавно ставшему модным, как выразилась Ева, Ист-Энду. Меня манили не столько рестораны и бары в этом районе, бедность которого за прошедшие несколько лет сменилась суровым, грязным шиком, сколько его оживленность. Яра верно заметила, что окраины города не пропитаны безнадежно приторной доброжелательностью Блумсбери и Хэмпстеда, показной роскошью Кенсингтона и Мейфэра, буржуазным самодовольством Ричмонда. Я шел от Бетнал-Грин до Олдгейта мимо убогих домишек, кондитерских Силхети, разрушающейся мечети и магазинов гугенотского шелка. Я чувствовал в воздухе неровное дыхание Дели. В городе, который я оставил,