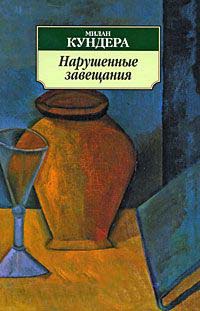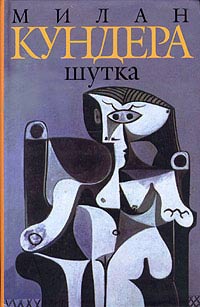«Что хорошо, то хорошо», — думал я, блаженно потягиваясь. И поскольку во мне всегда жила склонность к лицедейству, я вообразил себя этаким бывалым путешественником, который, пресытясь созерцанием чужих краев, возжаждал душевного покоя. Я заплатил за выпивку для всей компании, и парни поблагодарили меня стоя. (Итальянцы обожают красивые жесты.)
Однако подозреваю, что именно устрицы и погубили меня. По сей день тот ужин я считаю первопричиной своей немочи, поскольку вечером того дня самые изысканные деликатесы были не по мне: дюжина дешевых устриц застряла в желудке холодным комом.
Даже приготовления к званому ужину не доставили мне ни малейшей радости, хотя обычно именно они-то и приносили наибольшее удовольствие. Первым делом я проверил, все ли мои покупки прислали и не подменены ли какие продукты. Я взял себе за правило приобретать самое лучшее оливковое масло для готовки, похожее на желтый свет лампы. Взглянув на бутылку против света, я убедился, что в лавке меня не обманули: пробка не вскрыта, цвет и прозрачность идеальные — подобное созерцание всегда было мне в радость. Какое-то время я еще послонялся по кухне, следя, как варятся моллюски: к утехам чревоугодия надобно себя готовить — подобные навыки я уже освоил. Да что тут говорить, в ту пору жил я с умом! Я смотрел, как мальчишка-поваренок вытирает тарелки, как наводит блеск на бокалы, повращав изнутри кухонным полотенцем, а затем проверяет на свет, достаточно ли они сверкают. Иной раз в умелых движениях его сквозит спокойный ритм, и мне по душе и спокойствие этого ритма, и безукоризненное сверкание бокалов. Все существо мое пронизано благодушием во время этих неспешных приготовлений к ужину. Но на сей раз все было по-другому: я не испытывал ни малейшей радости, все внутри словно полнилось отравой.
А потом, когда собралась компания, я никак не мог подстроиться под своих приятелей. Они вели себя шумно, поглощали обильные яства, я же едва притронулся к еде. Гости во всю глотку горланили песни, а я только слушал. В те блаженные времена, попав в Левант, мы всегда запасались табаком; крикливо расхваливая свой товар, торговцы заваливали им суда. Табак был чудо как хорош — длинными прядями и удивительного, золотистого цвета, точно волосы юных девушек. Я вынес целую охапку и швырнул гостям. Сам я тоже пробовал затянуться, но понапрасну — еда и курево казались мне безвкусными, а жизнь — бессмысленной. До той поры я никогда и ничем не болел, даже расстройством желудка, но сейчас чувствовал, что мое везение кончилось. И стало мне очень тоскливо.
— Niente, niente, — сказал я приятелям, перекрывая звуки граммофона, — sono ип росо ammalato cosi. Ничего, ничего, немного нездоровится, — и сделал вид, будто опьянел от янтарно-золотистых вин.
Однако приятелям и без меня было весело.
— Vieni, vieni, иди сюда, — кричали они парнишке-стюарду, — ешь вместо хозяина. — И пичкали его деликатесами, хотя на судах всегда запрещалось есть во время несения вахты. Но сейчас я даже на это нарушение смотрел сквозь пальцы, настолько мне было худо.
Лишь когда компания разошлась, со злостью побросал за борт все остатки пиршества.
Я убежден, что именно хворь привела меня к женитьбе. Ну и вдобавок, в тот вечер я горько разочаровался в людях. Им главное набить желудки, а ты хоть пропади пропадом.
Ведь так уж оно повелось, что, невзирая на весь свой жизненный опыт, не можешь удержаться от обиды, когда ты в беде, а другие бегут мимо и даже не оглянутся. Это всегда больно ранит. А особенно близко принимаешь к сердцу обиды, связанные с едой. Речь не только о детях, я имею в виду взрослых людей, которые всерьез относятся к подобным вопросам, как бы ни пренебрегали ими иные снобы. Был у меня, к примеру, добрый приятель, Жерар Бист, который буквально впадал в меланхолию из-за неудачно приготовленного обеда.
— Тогда чего ради жить? — втолковывал он мне. — Месяцами заключен на этом паршивом судне, точно в тюрьме, и тебя лишают даже такой скромной утехи, как мало-мальски стоящая жратва? — И он был прав. Ну а уж насколько я-то был задет, нетрудно вообразить. Если лишиться этого удовольствия, то, спрашивается, что у меня остается? При моей всегдашней ненасытности привыкай осторожничать, соблюдай диету, ходи по больницам да бабкам-целительницам… Чего я только не перепробовал: и иголки втыкали в Японии, и числами лечили — все впустую! И наконец попал я к так называемому психоаналитику, которому, пожалуй, и обязан самым большим невезением в жизни.
— Уделите внимание женщинам, — посоветовал психоаналитик. — Да-да, женщинам! — Он подкрепил свою рекомендацию многозначительным взглядом.
Ну что ж, женщины так женщины. Далеко ходить не пришлось, поскольку именно в ту пору я познакомился со своей будущей женой.
Кокетливая француженка, веселая, хохотушка, она потешалась надо мной и заливалась неудержимым смехом, будто ее щекочут. Называла меня дядюшкой До-До, Кри-Крак и Бух-Бух — из-за моего смеха, подобного, по ее словам, оглушительным взрывам, и Медведем: до того, мол, забавно видеть, как торчат у меня за ушами уголки салфетки. А я действительно — сам не знаю, почему, вероятно, из укоренившейся привычки — за столом всегда повязывал вокруг шеи салфетку.
— Уши и без того большущие, — восклицала она, — а тут еще два торчащих уголка! — Она восторженно всплескивала своими миниатюрными ручками и резвилась, точно шаловливый щенок.
— Ах, какой неуклюжий да нескладный! — Таким возгласом она встречала меня, высунувшись из окна и наблюдая, как я поднимаюсь в гору (дом, где она жила, стоял на горе, за храмом, и вверх вела довольно высокая лестница). А у меня всякий раз почему-то возникало убеждение, что эта благоуханная французская розочка уже не раз выглядывала из окна навстречу ухажерам. Греховодница она была, греховодница, я почувствовал сразу же. Но какое это имело значение, если мне с ней было хорошо! Я попросил ее произнести заветную фразу: «Veux-tu obeir? Ты готов меня слушаться?» — и она исправно повторяла, а в дальнейшем повадилась всякий раз встречать меня так. Что и говорить, умна она была и сообразительна, да и ловкости ей было не занимать. На удивление быстро научилась правильно обращаться со мной: ни в чем мне не перечила, поступай, мол, как знаешь. Конечно, это свидетельствовало о ее немалом опыте, но я предпочел не замечать очевидного и отбросил все доводы рассудка.
«Коль скоро она нравится мне, женюсь, да и вся недолга!» — рассудил я. Моряки в подобных вопросах далеко не так осмотрительны, как остальные мужчины, — смело могу утверждать, поскольку достаточно нагляделся: обычный мужчина так и сяк взвешивает, прикидывает, прежде чем решиться на сей ответственный шаг.
Я же постоянно подвергался серьезным опасностям, и не только в море, — именно тогда завязалось дельце с отпетыми левантийскими мошенниками — так стоило ли принимать в расчет всякие пустяки вроде того, полюбит ли меня моя жена и сумеет ли хранить мне верность, пока я в плавании? Женщины вообще не отличаются верностью, а капитанские жены в особенности, с этим ничего не поделаешь.